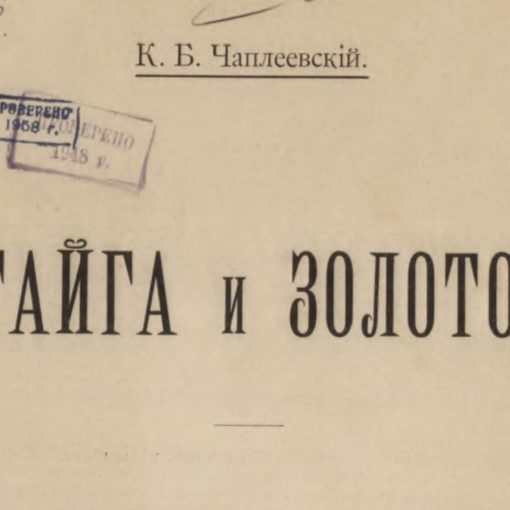Николай Коняев
Через два дня он закончил монтаж транспортера. Шел домой с отпускными в кармане, но трезвый как стеклышко: после указа водку в сельпо продавали стихийно. И не один шел — с главным механиком Степаном Васильевым, человеком уважаемым. Им по пути было. На ходу обсуждали важный вопрос: где лучше поставить новый движок, за которым Степан собирался в область. Сперва решили — в старом коровнике. Там вся механизация поржавела, так пусть хоть мотор заменится. А когда уже с сельмагом поравнялись и закурили напоследок, Санька предложил поставить в новом. Новому оборудованию, сказал он, и мотор соответствовать должен. На том и сошлись.
— Ну, отпускник, отдыхай, — сказал напутственно Васильев. — А надоест, приходи. Работы, как всегда, по горло.
— Работа не волк, — привычно отшутился Санька и шагнул направо.
И тут из сельмага Валюха вылетела. Пулей. Чуть Саньку с ног не сшибла. Завращала очумелыми глазами, слово вымолвить не в силах.
— С тобою что, родня? — остановился Санька. — За тобой кто гонится?
Валюха просияла.
— Са-а-анечка, родной! Тебя мне Бог послал, чесслово! Случайно, ты деньгами не богат? До вечера? Покуль до дому да обратно, тута все порасхватают. Ты бы видел, что творится! Ой, люди завиду-ущие! Ой, руки загребуущие! Все готовы схапать!
Что тебе цыганка остроглазая чужой карман дырявит!
И ведь знает, что сегодня он как раз богат. Валюхе не откажешь. В трудную минуту не раз шел на поклон.
— И сколько мы прикажем?
— Да сколь! Рублей хоть двадцать. До вечера, Санек!
— А Клавдия случайно не с тобой?
— Так она ж в район с отчетом укатила, поди, еще и не вернулась… Ну, спасибочки, Сычихин, выручил меня! — Валюха скомкала червонцы, назад в сельмаг метнулась.
Степан Васильев эту сцену со стороны пронаблюдал. Крикнул ей вдогонку:
— Чего дают-то, Валентина?
— Да всяку разну всячину, — отмахнулась та. — Вам, мужикам, сто лет того не будь… Распашонки, мыло импортно, стиральный порошок… Литературу всякую там разную.
— Художественную, что ли?
— Почем я знаю? Всяки книги. Толсты, тонки… Побегу!
Васильев вслед ей хохотнул:
— И почему такую замуж не берут? С такой не пропадешь!
— Чересчур взбалмошная, дьявола спугнет, — усмехнулся
Санька.
— Зайдем-ка, глянем, что за книги? — предложил Васильев.
— Да ну, какой я книжник!
— Зайдем! — загорелось Степану. — У тебя дочка до книжек охочая.
Санькина Галка и Степанова Берта в десятый перешли. Обе вплотную приблизились к порогу, за которым начинается опасная пора глубоких воздыханий по воображаемым рыцарям сердца. Рыцари в Шадринке то ли водились, то ли нет, но паскудников хватало, Санька в том не сомневался. Вдобавок к ним монтажники приехали — ЛЭП из города тянули. Один, смазливый, рыженький, месяц против окон ошивался. Санька глядел в оба. Недоглядишь — со стыда сгоришь. Как продавщица Боголюбова за Феньку. Десятый класс не закончила девка. И кто он — рыцарь ее сердца, отец ребенка, до сих пор во мраке. Санька за дочерью хоть и присматривал, но особенно не переживал. Галка действительно до книжек большая охотница. Вечера проводила у Васильевых, всю библиотеку прочитала. У Кузлюкиной в любимицах ходила. И хоть у отца иной раз кошки скребли на душе — все же девке семнадцатый год, ей бы матери помочь — чтению не препятствовал. Все, считал, при деле, не до женихов…
Затащил-таки в сельмаг Степан Васильев Саньку!
Что там происходило! Со всей Шадринки женщины сбежались, лезли через головы к прилавку. Шла отчаянная схватка за импортное мыло, стиральный порошок и распашонки. На Боголюбову со всех сторон шумели — помногу в одни руки отпускала.
Степан, за ним Сычихин бочком, бочком протиснулись к прилавку. На них глядели подозрительно-враждебно. На полках за спиной у Боголюбовой стопками лежали новенькие книги. Продавщица с каждой стопки сняла по экземпляру. Очередь на всякий случай возмущенно загудела, особенно Валюха взволновалась, но, увидев, что мужчины не за тем товаром, сразу успокоилась. Кто-то даже засмеялся.
— Пущай берут, раз к поэтессе не пускают!
— Вот вам весь товар. — Продавщица улыбнулась уважительно Степану и попутно по Саньке улыбкой скользнула. Но бровь невольно вскинула. «Надо же, Сычихин в книголюбы записался!» — расшифровал улыбку Санька, и в магазине стало скучно, неуютно.
А Васильев, не смущаясь от смешков со стороны, грудью навалился на прилавок, придвинул стопку книг, стал каждую неспешно изучать. Интересно он это проделывал. Бережно откидывал страницы, ладонью сверху вниз по корешкам водил, оглаживал обложки, только что не целовал. Вскоре перед ним две стопки книг образовалось. Одна, слева, выше, другая, справа, ниже. Но та, что справа, все росла и скоро переросла левую…
Санька, боком прислонясь к прилавку, стал по сторонам поглядывать. И почувствовал себя круглым идиотом. Толкнул Степана в бок.
— Ты, я вижу, надолго. Пойду.
Степан дыхнул в лицо горячим шепотом:
— Такая, брат, литература! Находка, а не книги… В Среднесибирске на толкучке втридорога не купишь. Подкинька, брат, червонец! — С кончика вспотевшего механикова носа на рубашку капнуло.
В это время Саньке на глаза попала книжка. Маленькая, будто записная. Степан ее налево сбросил. Не заинтересовала. А Санька спохватился. Знакомая фамилия на беленькой обложке: А. ГРЯЗНОВ. Чуть ниже: ПЕРВОГОДКИ. Видимо, об армии.
Во рту сухо сделалось, будто добрый прокос без оглядки прошел.
«Неужели тот — гвардии сержант? — подумалось ему. — Нет, не тот, — решил на улице, — мало ли Грязновых?»
5
— Ноги у тебя поотвалились? Не мог встать в очередь? Перетрудился, бедненький, да? — встретила дома Клавдия. Глаза и нос у жены были красные, припухшие от слез. — Люди он не поленились, так всего и понабрали!
— Да чего всего-то? — удивился Санька. — Порошка да распашонок? Нам распашонки без нужды. Верно, дочка, говорю?
Дочь демонстративно отвернулась.
— Хотя б и порошка, — распалялась Клавдия. — Грязную рубашку в отпуск не наденешь!
— Там, Клава, народу, что муравьев в муравейнике. Стоять не захочешь…
— Будь я дома, я бы постояла, мне ничего не стоит. Тебе ведь ничегошеньки не нужно. Вот где-то остограммился, и ладно. Думаешь, не чую?
Слово за слово, далеко зашло.
Клавдия криком отвела душу, схватила подойник, выскочила в сенцы.
Санька к дочке обратился:
— Мать давно приехала?
— Уже в седьмом часу… Вот где ты, папуля, пропадал?
— Зашел к Кузлюкину, дядь Леше… Шел мимо, он зазвал. Маленько посидели.
— Оно и видно, что маленько.
— Ладно, не указывай. Мать с чего уревана? Из района вернулась такой?
Галка с опаской на дверь покосилась.
— Только что по телику фильм про Будулая показали… Вот и наревелась.
— Я и вижу — не в себе. Думал, за отчеты наругали. — Санька сел напротив дочери, пальцами со лба въехал в шевелюру: голова болела, зря у Лехи выпил. — Ты, чем книжечки почитывать, лучше б мамке помогала. Мне ведь импортное мыло ни к чему, я хозяйским хорошо намылюсь.
— Не хозяйским, а хозяйственным.
— Невелика разница. В кого ты выросла ленивицей — ума не приложу. Мать не белоручка, отец не разгильдяй…
— О-ос-споди, заколебали! — Дочь за голову схватилась. — Тебе, пап, как влетит от мамы, так ты за воспитание берешься… Напашусь, какие мои годы! — Галка гордо удалилась в свою комнату.
Санька рот раскрыл остановить— вот ведь взяла в моду: как против шерстки, так скорей бежать, — но что-то удержало…
Странное чувство овладело им: ревность — не ревность, обида — не обида.
С подойником в руке вернулась Клавдия, продолжила старую песню.
— Пап, ты кушать хочешь? — матери в укор из-за двери спросила Галка.
— Уже мамка накормила!
«Молодец дочура, — подумал с благодарностью, — не держит зла. Добра желаю — понимает».
За столом Галка, подперев щеки кулачками, улыбнулась загадочно.
— Интересный ты у нас, когда сердишься. Прямо как воробушка.
Санька поперхнулся.
— Кто-о?
— Я пошутила, пошутила!
— Шуточки какие-то!
«Совсем ведь уже взрослая, — увидел Санька вдруг. — И смотрит-то по-взрослому. Вылитая мать. Отучится, поступит… С Клавдией останемся».
Он прогнал от себя невеселые мысли.
— Вот ты все читаешь и читаешь… А у писателя Грязнова что-нибудь читала? Про армию он пишет.
— Меня армия не волнует.
— Доброе тебя, конечно, не волнует. Вам ведь что ни дурно, то потешно.
Упущенные мыло, порошок не давали Клавдии покоя.
Снова завелась.
— Интересные вы стали, — засмеялась Галка. — Скука вас заела или дело к старости. Ну вас, я пошла! К Берте. Ненадолго.
— Смотри там у меня!
— Ос-споди, опять!
— Пошел в отпуск, так съездил бы куда-нибудь! — сорвалось вдруг у Клавдии.
— А что тебе моя поездка? — Санька так и замер.
— Да что-то ты испсиховался. То ли на работе неполадки, то ли я не угодила.
— С чего взяла?
— Вижу, не слепая. То, бывало, ботолишь без умолку, а теперь как бука ходишь. Утром встал молчком, поел молчком, ушел молчком. Что случилось? Чем не угодила?
Нет, не было притворства в Клавдиных глазах. Ее глазам он верил больше, чем самому себе.
Вышел на крыльцо и закурил. «Черт-те что лезет в голову, блажь какая-то, и только. Может, на фотке вовсе и не тип, а так себе — баламут… Сам ведь с доярками по-всякому хохмишь!»
* * *
У Васильевых тоже не спали. Горислава Петровна мыла посуду, Степан в синем спортивном костюме сидел на кресле, тискал на коленях рыжего сиамца Фомку. Выгнувшись дугой, кот урчал блаженно, отбивался лапой. Степан стряхнул с коленей Фомку, кивнул на телевизор.
— По второй «Торпедо» со «Спартаком» пластаются. Переключить?
Санька отмахнулся. О том о сем поговорили, он глянул на часы.
— Да, чуть не забыл. — Степан из шкафа вынул раскосмаченную книгу. — Галке отнеси. Почитать просила Мопассана. «Милый друг».
— Ей бы вот ремня хорошего — не друга. В алгебре не петрит ни хрена, на уме одни друзья. Как экзамены будет сдавать, на кого надеется? — Но книгу все же взял. — А разве Галка не у вас? — тут же спохватился.
— Нет, и не было сегодня.
— Да как же это не было? Она ведь ненамного раньше умотала.
— Горя, Берта где? — спросил жену Степан.
— К Сычихиным ушла.
— Ясно, — сказал Санька. — На танцы умелись.
— А ты чего зашел-то? — спросил его Степан. — По делу или так?
— От Клавдии спасаюсь… Порошка не взял!
— Только что с Петровной объяснялся! Оплошали, брат!
6
Армия не сразу отпустила Саньку. Часто снилось: служит долго, бесконечно долго, да и не служит уже, а дослуживает. По казарме бродит неприкаянно, никому до него и ему ни до кого нет дела. И ни единого знакомого лица — все чужие, равнодушные. Но вот каким-то образом вдруг выясняется, что Санькин год демобилизовали, а про него забыли. Его не замечают: что есть он, что нет его. И когда выясняется, во всевозрастающей тревоге пускается он в бега по многочисленным штабным кабинетам, что-то кому-то доказывает, в чем-то кого-то убеждает, а всем недосуг, всем не до него, все как в разворошенном муравейнике. И вот уже штаб — не штаб, а совхозная контора, Валюха Шубина плывет по коридору, тычет в него пальцем: «Ба-а, Сычи-и-ихин! Похохмил бы че-ни-будь!» И Клавдия, будто чужая, шествует мимо. Глядит куда-то в сторону, как призрак…
Санька в поту пробуждался, озирался в потемках и соображал, где он — в прошлом или настоящем. Но рядом с ним лежала Клавдия, спящая по странной привычке носом в подушку, на груди, до умиления близкая, родная. Вместо металлической сетки казарменной койки верхнего яруса белел над головой потолок отцовского дома. Санька вздыхал облегченно, и радостью за предстоящий день, по-неуставному вольный, свободный, переполнялось сердце.
Единственный хранитель памяти армейского прошлого — дембельский альбом, когда-то ревностно лелеемый, а теперь забытый, плесневелый, — лежал сегодня на столе. В пропыленном жаберном чреве его не оказалось снимка сержанта Грязнова. Адрес, вписанный впопыхах, да брошенное на ходу: «Доведется быть в Среднесибирске — заходи» — вот и все, что осталось на память…
Какое «заходи!». Вот и альбом насилу разыскал. В ящике на чердаке. До сего времени не знал, не ведал, где он, уцелел ли после переезда в новую квартиру. А главное, не испытывал потребности ковыряться в прошлом. Ведь все те парни, что в силу общей необходимости на короткий отрезок времени (что в нашей жизни два года!) оказались рядом и, понятное дело, стали в чем-то даже близкими, — давно получили команду «вольно, разойдись!» и с радостью исполнили ее. Разошлись каждый своей дорогой, по которой, не будь соединившей их необходимости, пошли бы двумя годами раньше. Что уж тут ворошить!
Теперь же приятно было просто сознавать, что и ты в свое время исполнил долг и сделал это, пожалуй, не хуже других. Об этом думалось легко и с некоторой даже грустинкой, как о молодости вообще. Не потому ли весной — в мае, осенью — в ноябре, когда Кузлюкин Лexa подгонял автобус к сельсоветскому крыльцу за очередной партией шадринских призывников, приходилось корчить ваньку, захмелевшего на проводах, демонстрировать ушастикам умудренность опытом, к месту и не к месту разбавляя наставления чем-либо шутовским, типа: «Хорошая школа армия, но лучше бы пройти ее заочно», или загадочно-весомым: «Служба солдата осеннего призыва начинается с иголки и лопаты», и верить в то по крайней мере, что последнее назавтра по достоинству оценится…
Видимо, ночи дарованы человеку не только для сна, но и для размышлений. Поспать для освежения сил можно в любое время суток, при любых обстоятельствах. Лучше, разумеется, дома. Но в случае крайней необходимости соснуть часок-другой можно на работе, если, конечно, начальства поблизости не наблюдается. А иные под маской глубокомыслия и отрешенности от земного умудряются почивать и на работе, стоя, на ходу… Видали таких. В армии, в роте охраны, где Саньке служить довелось, один вояка насобачился спать на посту. Стоит с карабином через плечо, с открытыми, как положено, глазами, и спит себе втихушку. Не шелохнется. Как статуя…
Ночью только и подумать, и повспоминать.
Да вспоминалось-то невеселое, все что-то мрачное, щемящее…
Как шел домой с большака поздним мартовским вечером. Шел со справкой об освобождении в кармане, втянув голову в плечи, пряча лицо от сельчан. Не хотелось быть узнанным раньше утра, встреченным сочувственкой во взгляде. И не верилось, что волен. Волен и свободен. Слова-то какие! А уже весной пахнуло. Впервые он тогда — после года неволи — почуял, как весной пахнуло. Сердце тревожилось, вздыхало…
Говорят, весна приходит. Кто это выдумал? Не приходит она — рождается. Как листья из почек, как лепестки из бутонов. Или — нет. Из ничего рождается. Как настроение. В один прекрасный миг проклюнется что-то в природе, и — забродило, задышало, вспучило…
Дорогу домой можно было спрямить, но он предпочел крюк. Даже не глянул на проулок, словно и через год после аварии боялся увидеть на боку искореженный падением «уазик». А в доме светилось окно, калитка болталась распахнутой…
И был долгий вечер. И уже за полночь, уложив в постель дочурку — ей шел тогда седьмой годок, сидели с Клавдией вдвоем, и ни слова о прошлом, ни слова о будущем. Перед тем как лечь, вышел покурить, а ночь стояла теплая и черная, и звезды в небесах висели крупные и яркие. Следом вышла Клавдия, рядом постояла. «Хорошо-то как, — сказала. Уронила голову на его плечо. — Красота… А мы не видим. Плохо, Сань, живем…».
* * *
В сенцах звякнула щеколда. Галка, крадучись, бесшумно проскочила в свою комнату.
Санька приподнялся на локте, глянул на будильник: без четверти три ночи…
Продолжение следует…