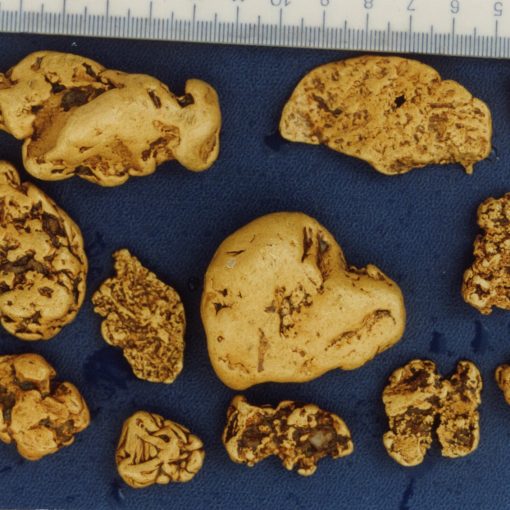Николай Коняев
Берёзов. Первый вечер. 1907, 11 февраля
В наступивших сумерках обоз тяжело втянулся в пологий, испещрённый по лысому склону петлями собачьих троп заснеженный берег Сосьвы. Головная часть подвод с нанятыми в Белогорье проводниками и бессменно от Тобольска сопровождавшим партию конвоем пересекла расчищенную от снега небольшую площадь и упёрлась в высокий тёмно-коричневый забор, окружавший два одноэтажных деревянных здания с караульной вышкой в углу двора. Задние подводы с частью конвойного отряда и багажом ссыльных подтянулись и взяли площадь в плотное кольцо. Из кошёвок и саней неуклюже вылезали пассажиры — в шубах, в полушубках, в гусях, а иные и в гусях на полушубках. С любопытством озирались по сторонам, прохаживались, разминая затёкшие в валенках и кисах ноги, вполголоса вяло переговариваясь. Капитан и пристав отдавали какие-то команды жандармам, ямщики, не медля, принялись распрягать низкорослых северных лошадок.
Ссыльные в ожидании дальнейших распоряжений сошлись в круг. За живым кольцом обоза появились первые группки местных жителей.
Хрусталёв обратил внимание:
— Смотрите, а ведь одеты вполне по-европейски… В шубах, в шапках, в валенках…
— А вы, Георгий Степанович, ожидали увидеть аборигенов в медвежьих шкурах? – ядовито усмехнулся Бронштейн. – Остяки — не праздные горожане, они — оленные люди, зимой кочуют в лесах и тундрах со своими стадами. А это – местные жители. Русские сибиряки. Возможно, обрусевшие остяки.
— В медвежьих – не медвежьих, но ведь Север всё-таки! Дикий Север — не Европа! – искренне недоумевал Хрусталёв, в отличие от Лейбы к своим тридцати севернее Петербурга нигде не бывавший. Неделю назад в Цингалинских юртах даже вскрикнул от восторга, увидев пролетевшего снежной целиной на оленьей упряжке черноволосого остяка в меховом гусе…
— А не кажется ли вам, господа, что после пятого года в таких, как Берёзов, городишках да и, вероятно, в ожидающем нас Обдорском ссыльного контингента больше, чем местного населения? – приподняв воротник полушубка, с улыбкой заметил высокий, сухопарый доктор Фейт.
— Пожалуй, вы правы, Андрей Юльевич! – согласился Лейба и добавил, поёживаясь от пробиравшего его озноба. — Похоже, не очень-то спешит берёзовское полицейство принимать «высоких» питерских гостей!
Но, оказалось, «берёзовское полицейство» и прочее городское начальство давно было на своих местах. В коричневом заборе полицейского управления со скрипом распахнулись двустворчатые тесовые ворота, и со двора донеслась команда сопровождавшего пристава:
— Пр-р-а-шу!
Внутри просторного двора управления был ещё один высокий забор — тюремный, за которым впритык к зданию тюрьмы располагалась солдатская казарма. У входа в тюрьму стоял шпалерами весь городской гарнизон — человек тридцать, во главе с коренастым, рябым штабс-капитаном с щеголеватой щёточкой рыжих усов…
В камерах, куда с подчёркнутой учтивостью сопроводили и по трое-четверо разместил прибывших, было довольно-таки холодно и сыро, зато всё — пол, окна, двери были выкрашены, вымыты и выскоблены. По-видимому, местных арестантов накануне куда-то перевели или освободили…
— Господа, вам отводится полчаса на приведение себя в порядок! – объявил полицейский надзиратель. — Можно переодеться в личные вещи, которые сейчас будут доставлены. После чего всем собраться в коридоре для следования на ужин…
Какое всё-таки блаженство после долгой утомительной дороги сбросить с плеч тяжёлую овчинную шубу, стянуть с озябших ног промёрзшие валенки и умыться, наконец, по-человечески, с глицериновым мылом, чистой водой из рукомойника, упасть на обтянутый серым холстом войлочный тюфяк и полежать недвижно с сомкнутыми веками хотя бы несколько минут, прислушиваясь к биению собственного сердца…
Лейба с удовольствием надел домашнюю рубашку и брюки, переобулся в чёрные кожаные ботинки, в высоких каблуках которых по совету бывалых петербургских сидельцев были устроены тайники-пустоты для принесённых Натальей золотых червонцев царской чеканки, а в подмётку вшит новый паспорт для запланированного побега из Обдорска.
Через полчаса все собрались в коридоре. Кто-то уже в домашней одежде, кто-то всё в тех же, выданных в петербургской пересылке, серых арестантских армяках и брюках.
Одно из самых вместительных тюремных помещений было оборудовано под временную столовую. Посредине стояли встык два стола, накрытых цветной скатертью, с венскими стульями по периметру, ломберным столиком с лампой и двумя горящими свечами в медных подсвечниках…
— Н-да, господа! — не удержался от комментария Богдан Кнунянц. – Такое впечатление, что мы вернулись в зал Вольного экономического общества для продолжения прерванной работы!
На что доктор Фейт не преминул заметить с иронической усмешкой:
— В зал, в который с минуты на минуту ворвётся наряд вооружённой полиции?
Но в зал с подносами в руках вошли три молодых солдата местного гарнизона. На стол в определённом порядке были выставлены солонки, блюдца с постным маслом, глубокие эмалированные миски с горками отварного картофеля, исходящего ароматным паром, кусками белой, с желтоватым оттенком по подбрюшью, солёной рыбы… Минуту спустя под гробовое молчание ошарашенных неожиданным гостеприимством «гостей» солдаты установили посредине стола медный самовар, два синих крутобоких заварника, чашу с крупной, с глянцевым отливом, брусникой, вазу с серым кусковым сахаром, снизку свежевыпеченных баранок…
О том, что двадцать восьмого января из Тобольска в сопровождении конвоя из двадцати солдат, пристава и урядника выедет партия ссыльных, да не каких-нибудь, а «важных государственных преступников» в количестве четырнадцати человек, причём, некоторые с жёнами и детьми, губернатор Гондатти поставил в известность уездного исправника Евсеева ещё семнадцатого января. Телеграммой, доставленной нарочным из Самарово, Иринарху Владимировичу предписывалось заблаговременно выслать в Белогорье пристава для поиска двух десятков одноконных подвод, обязать начальника местной воинской команды штабс-капитана Салмина выделить два десятка самых опытных, надёжных солдат для замены тобольского конвоя, ссыльных в Берёзове содержать под стражей, принять все необходимые меры к предотвращению побегов…
И весь этот суматошный месяц у Иринарха Владимировича голова шла кругом. Каким образом обеспечить «строгие меры» при четверых городовых на весь городишко, в котором и без того скопилось уже свыше тридцати таких же «важных», требующих неусыпного надзора. Даже если привлечь к круглосуточной охране весь гарнизон Салмина, а у него воинов тоже не густо – около тридцати человек на шестьдесят семь имеющихся в арсенале винтовок, причём, приходится содержать обязательные посты в тюрьме, казначействе, на почте, в цейхгаузе. Штабс-капитан, кстати, трезво оценил обстановку в связи со скоплением в городе политических, от которых порой не знаешь, чего ожидать, и предусмотрительно распорядился снять со свободных винтовок затворы и штыки…
Правда, через неделю Гондатти, в молодости бывавший и в Берёзове, и в Обдорске, не понаслышке знавший глухой во всех отношениях уезд, и, возможно, по совету более лояльного к политическим вице-губернатора Тройницкого смягчил строгость рекомендуемых мер. Во всяком случае, Иринарху Владимировичу было предоставлено право самому, по согласованию с Салминым, установить необходимое количество конвойных с учётом местных условий. На самом деле, к каждому ссыльному часового не приставишь, да и ни к чему. Летом – да, другое дело, глаз да глаз нужен, бегут отовсюду, как ни сторожи. И эти питерские тоже разбегутся один по одному, но не зимой и уж, конечно, не отсюда, не из Берёзова, а из Обдорска по большой воде. А в феврале – месяце стужи и метелей – куда бежать? На верную погибель?
Ещё через неделю Николай Львович сообщил: жёнам политических, отправленных из Тобольска двадцать девятого января, разрешено следовать отдельно от мужей без конвоя. Если всех прибывших одновременно отправить в Обдорск не представится возможным, допускалась отправка очередями. Конвой в таком случае хотя бы из пяти человек являлся обязательным для первой очереди, в которую непременно следовало включить наиболее опасных – лидеров бывшего Совета Носаря-Хрусталёва и Бронштейна…
Но всё оказалось ещё сложней. Уже когда обоз въехал в пределы уезда, выяснилось: ссыльные отправлены из Тобольска в крытых троечных экипажах, имеют при себе немало багажа, а потому требуется не двадцать, а все пятьдесят лошадей. Вот когда Иринарх Владимирович схватился за голову! Где в срочном порядке найти ещё три десятка лошадей? Где набраться кормов на несколько дней для табуна в полсотни голов? Где разместить всю эту ораву? Где и чем накормить – не пускать же с сумой по городу? А не сегодня-завтра с низовьев должны пригнать ещё и сотню оленей для перевозки «высоких гостей» в Обдорск. Стражников нет, начальник тюрьмы, сукин сын, накануне по пьяному делу сломал ногу…
Сейчас, когда все вопросы были согласованы, отданы последние распоряжения городскому голове, приставу, уряднику и даже заведующему столовой Общества трезвости, и каждый занимался своим делом, а прибывшие размещались в тюремных камерах, приводили себя в порядок и ужинали, Иринарх Владимирович велел командиру конвойного отряда принести их личные дела для беглого ознакомления…
Угрюмый, изнурённый нелёгкой дорогой капитан положил на стол связку серых тонких папок и тотчас же молча удалился.
Белой, пышной ладонью Иринарх Владимирович слегка придавил стопу, развязал узел замусоленных тесёмок.
«Четырнадцать папок – четырнадцать судеб…
Кто они, что за люди эти четырнадцать авантюристов, приговорённых на вечное поселение в забытое богом захолустье?
Авксентьев Николай Дмитриевич, он же – Серов. При аресте – дворянин Пензенской губернии. 27 лет. Социалист-революционер. Член исполкома…
Вайнштейн Семён Лазаревич, он же – Звездин… Или — Звездич? — Иринарх Владимирович досадливо поморщился, не в силах прочесть неразборчиво написанное слово. — А впрочем, какая разница – Звездин или Звездич?.. Курский мещанин. 26 лет. Социал-демократ…
Голынский Исаак Львович…
Киселевич Михаил Иванович…
Злыднев Пётр Александрович. При аресте – крестьянин Орловской губернии»
— И этот из Орловской губернии! – скривился от досады Иринарх Владимирович. – Все они там буйные, что ли, в этой Орловской губернии? Хватило бы мне в уезде одного Сенькина!
Тихона Сенькина – этого здорового рыжебородого орловского парня чуть больше года назад доставили под гласный надзор на три года за подстрекательство крестьян к погромам помещичьих имений в бурном девятьсот пятом на орловщине. Немало громил прошло через уезд и губернию, но таких дерзких, озлоблённых, как этот «кулинар» (был когда-то учеником пекаря в Орле), Иринарх Владимирович ещё не видывал. При первой же встрече показал зубы. Сплавил с глаз подальше в Мужевское. Но через месяц-полтора прислал слёзное прошение – нет, мол, ни работы, ни жилья, ни пропитания. Сжалился, связался с губернатором, перевёл в Обдорское. А он и там в бузу ударился. Пристав шлёт рапорт за рапортом – Сенькин скандалит, Сенькин дерзит, Сенькин стравливает зырян с купцами и полицейскими…
Евсеев в раздражении бросил папку Злыднева, взял следующую.
«Кнунянц Богдан Мирзаджимович, он же – Саркисянц, он же – Русов, он же – Петров… При аресте — шушинский мещанин. 28 лет. Социал-демократ. В 1902 году — один из организаторов «Союза армянских социал-демократов». Делегат II съезда РСДРП. Первый арест – в феврале 1904-го…»
Папку с делом «шушинского мещанина» Иринарх Владимирович решительно отложил по правую руку.
— И с этим придётся держать ухо востро!
«Комар Эразм Сильвестрович…»
— Хм, Комар… — усмехнулся Евсеев. – То ли кличек, то ли псевдонимов напридумывали разных!
«Немцов Николай Михайлович…»
А вот ещё один «особо важный». Посмотрим, что за гусь…
«Носарь-Хрусталёв Георгий Степанович, он же – Хрусталёв Пётр Алексеевич. Родом из Полтавской губернии. 27 лет. Кандидат юридических наук. Инициатор создания Петербургского Рабочего Совета. В июле 1905-го арестован. В сентябре освобождён. С октября по ноябрь – председатель первого Петербургского Совета. Арестован 26 ноября… — Папка с делом первого председателя легла на папку Кнунянца. —
Сверчков Дмитрий Фёдорович…
Симановский Арсений Арсеньевич…
Стогов Егор Алексеевич…
Фейт Андрей Юрьевич. При аресте – Фейт Андрей Юльевич. Врач…-
Иринарх Владимирович осёкся. – Врач – это хорошо. В уезде докторов великая нехватка. Надо бы присмотреться к этому Фейту… — 41 год. Бывший народоволец, ныне – член ЦК партии социалистов-революционеров. Член исполкома…» — Сорок один… Точнее, уже сорок два, если не сорок три. Ведь не мальчишка уже, пора бы и остепениться, а всё туда же! – Иринарх Владимирович в сердцах бросил папку Фейта.
«Бронштейн Лев Давидович – он же Троцкий, он же – Яновский… При аресте – мещанин Елисаветградского уезда Херсонской губернии. 26 лет. 1897 год – один из основателей «Южнорусского рабочего союза». 28 января 1898-го – первый арест. 1898 — 1900 – Одесская тюрьма. 1900 — 1902 – ссылка в Иркутскую губернию. 1902 – побег. 1903 – делегат II съезда РСДРП. 1905 – один из организаторов Петербургского Совета рабочих депутатов, член исполкома. После 26 ноября – председатель Совета… 3 декабря 1905 – арест…»
Любопытнейшая личность!
О прошлом этого черноволосого стройного красавца, сменившего Хрусталёва на посту председателя Петербургского Совета сразу же после ареста последнего, о его судимости и побеге из Иркутской ссылки, о дерзком поведении на Петербургском процессе Иринарх Владимирович был хорошо осведомлён… Он был наслышан и о том, что этот самоуверенный фанатик без угрызений совести оставил в Усть-Куте свою бывшую соратницу по «Южнорусскому союзу», первую жену Соколовскую с двумя малолетними дочками, которых теперь воспитывают в своём хуторе на херсонщине его родители – землевладельцы из еврейских колонистов. Что от второй, гражданской жены Седовой в прошлом году родился сын, которого он ещё не видел и, похоже, долго не увидит…
Евсеев придвинул папку с аккуратной надписью на рыхлом картоне «Бронштейн-Троцкий». Открыл на «особых приметах»:
«Рост – 2 аршина 5/8 вершка.
Глаза – голубые.
Цвет и вид кожи лица – чисто матовый.
Правое ухо – очертание круглое. Раковина глубины и ширины средняя.
Лоб – направление вертикальное, очертание — прямой.
Дуги надбровные – малые.
Волосы головы – чёрные. Борода и усы – чёрные.
Переносье – мелкое, спинка выпуклая, основание опущенное.
Племя – еврей.
По внешнему виду – 30 лет.
До осуждения занимался журналистикой.
Какое знает ремесло – нет.
Вероисповедания – иудейского.
Осуждён С. Петербургской судебной палатой.
Существо приговора: за состояние участником сообщества, которое постановило целью своей деятельности насильственное, посредством организации вооружённого восстания изменение установленного в России основными законами правления на демократическую республику…
«На что променял человек свободу, карьеру, семью, детей?» – этого примерному семьянину, отцу восьмерых детей, благочестивому Иринарху Владимировичу не дано было понять…
— Ваше высокоблагородие, – прервал невесёлые размышления вошедший в кабинет полицейский надзиратель Клёпиков, – извольте доложить: ссыльные и конвой отужинали, в ожидании вашего прибытия!
С орденами Святой Анны третьей степени, Святого Станислава второй и третей степеней на тёмно-зелёном парадном мундире с «золотыми» погонами, оранжевыми кантами по бортам и обшлагам, Иринарх Владимирович сидел во главе убранных и застеленных свежей скатертью столов. Справа и слева от него с напряжёнными, серыми от переутомления лицами жались сопровождавшие обоз капитан – командир конвойного отряда, пристав и урядник. Вдоль стены на стульях на случай возможных распоряжений расположилось местное начальство – Обдорский становой пристав, прибывший для приёма и дальнейшего препровождения партии ссыльных, полицейский надзиратель, старший городовой, урядник, щеголеватый штабс-капитан с испещрённым мелкими оспинками лицом, возглавлявший караул у входа в тюрьму, и моложавый, с аккуратно выстриженной русой бородкой господин, небрежно закинувший ногу за ногу и с нескрываемым пренебрежением рассматривавший «петербургских гостей»…
— Господа бывшие депутаты! – громко, почти торжественно произнёс Иринарх Владимирович. – Позвольте коротко, без излишних церемоний представиться: берёзовский уездный исправник, коллежский ассесор Евсеев. С благополучным прибытием в наш тихий уездный городишко. Понимаю: не по доброй воле, не на экскурсию, но что поделаешь – закон есть закон, приговор есть приговор. Я, разумеется, бегло ознакомился с вашими делами. – Иринарх Владимирович привычным движением придавил мягкой, ухоженной ладонью стопу картонных папок на столе. – Не секрет, все мы, — он обвёл тёплым взглядом окружавшую его свиту, — как и столичная интеллигенция, с интересом следили за ходом процесса по делу Петербургского Совета, в курсе, так сказать, основных событий. И ваше «прощальное письмо» к петербургскому пролетариату не прошло мимо нашего внимания. – Евсеев коротко, но выразительно взглянул на Бронштейна. Тот с иронической по отношению ко всему происходящему усмешкой держался подчёркнуто отстранённо…
Фейт, Сверчков, Кнунянц переглянулись. Судя по оживлению и блеску в глазах, удивились оперативности, с которой переданное ими в прессу накануне отъезда «прощальное письмо» дошло и до берёзовского чиновничества.
Евсеев невозмутимо продолжил:
— Конечно, по меньшей мере, странно считать данную Богом государственную власть «вековым врагом трудового народа». Но не будем затевать по этому поводу политических дискуссий. Кто не ошибается? Не зря в народе говорят: от тюрьмы да от сумы не отпирайся… Вы прибыли в Берёзов. Надеюсь, наш городок вам понравится. У вас будет возможность для ознакомительных прогулок. Благодаря распоряжению губернатора Николая Львовича Гондатти, вам предоставляется двое-трое суток отдыха. Содержаться будете в тюрьме, уж простите великодушно, больше, к сожалению, негде, а обедать-ужинать придётся в чайной и столовой Общества трезвости. Завтра вам покажут. Надеюсь, наберётесь сил и терпения для продолжения нелёгкого пути к месту причисления. Это ещё около пятисот вёрст на север. Поедете на оленьих упряжках. Соответствующие распоряжения отданы, подводы и проводники начнут прибывать с завтрашнего утра… А сейчас у меня к вам несколько необходимых вопросов. Нет ли у кого, господа, жалоб, заявлений на притеснения или неправомерные действия конвоя в пути?
— Какие могут быть жалобы, ваше высокоблагородие! – с места ответил за всех лобастый, крепко сложенный молодой человек с длинными русыми волосами, зачёсанными на прямой пробор, с располагающей улыбкой на широком славянском лице. – Очень вежливый, предупредительный, заботливый конвой!
На непроницаемых доселе лицах стражников и чиновников возникли непринуждённые улыбки.
— Вы – Хрусталёв? Георгий Степанович? – угадал Евсеев бывшего председателя Совета.
— Совершенно верно — Носарь-Хрусталёв.
Иринарх Владимирович удовлетворённо хмыкнул:
— Спасибо, Георгий Степанович!
Хрусталёв не лукавил. За всё время санного пути от Тюмени до Берёзова ни один из конвойных не повысил и голоса. Более того, на каждой станции они на свой страх и риск отправляли личные письма ссыльных…
— Позвольте уточнить, Эразм Сильвестрович, — обратился Иринарх Владимирович к сидевшему рядом с Хрусталёвым ссыльному. — Комар – это ваша родовая фамилия или партийная кличка?
— Родовая, — буркнул Эразм Сильвестрович.
— Это – характер, ваше высокоблагородие! — ввернул Богдан Кнунянц, чем вновь вызвал улыбки на лицах присутствующих. Усмехнулся даже мрачный Комар, больной зуб которого ни на минуту не позволял ему расслабиться… — Кстати, разрешите полюбопытствовать о поведении этих кровососущих насекомых в вверенном вам уезде?
Евсеев, приняв шутку словоохотливого Кнунянца за уместную разрядку, ответил:
— О поведении этих зловредных насекомых в Обдорске вам подробно расскажет становой пристав. Пока же не извольте беспокоиться – зимой они безобидны.
— Спасибо!
— Весёлый вы человек, Богдан Мирзад… жинович! – с интонацией то ли одобрения, то ли упрёка мягко произнёс Евсеев.
— Так точно, ваше высокоблагородие! У нас, у Кнунянцев, весь род весёлый. У меня три брата – и все весёлые!
— И все социал-демократы?
— Все как один.
— Сочувствую вашим бедным родителям!
Импульсивный Кнунянц обескуражено развёл руками. Иринарх Владимирович между тем внимательно вгляделся в невысокого, коренастого парня с чётко обозначенными кругами под тусклыми глазами, с чуть заметной усмешкой на круглом, землистого цвета лице с выдающимися серыми скулами…
«Если не ошибаюсь, Злыднев — земляк нашего Сенькина… Ведь явно болен, — отметил он. – Всерьёз болен… Что же вы творите с собой, молодые люди? Что приносите в жертву своим бредовым, навязчивым идеям? Здоровье. Богом данные жизни. Безумцы! Не нами началось, не нами и кончится!»
— Нет ли, господа, среди вас больных? Вот ведь совсем, было, упустил… Господин Комар, вы, как я понял, страдаете зубной болью?
— Замучил проклятый корневой! – простонал Эразм Сильвестрович.
— Завтра же с утра сопроводить господина Комара к фельдшеру! – приказал Евсеев полицейскому надзирателю Клёпикову. – У кого-то ещё жалобы на недомогание имеются? – Он остановил взгляд на сером лице Злыднева. – Пётр Александрович, вы хорошо себя чувствуете?
Не ожидавший подобного участливого внимания Злыднев смутился и кашлянул в кулак.
— Спасибо, ваше высокоблагородие. Сносно. Лёгкая дорожная усталость, не более.
— И всё же, я советовал бы вам обратиться к врачу…
— Непременно, Пётр Александрович! – поддержал исправника доктор Фейт. – Непременно обратитесь! Вид у вас очень усталый…
— А вам, Андрей Юльевич, — продолжил Евсеев, — как врачу, надеюсь, было бы весьма любопытно ознакомиться с нашей инородческой больницей…
— Разумеется, профессиональный интерес велик… – Интеллигентный Фейт приложил руку к сердцу. — Премного благодарен!
— Завтра же велю свести вас с уездным доктором Малининым. Да и в Обдорске, я полагаю, вы как врач будете очень кстати! – Евсеев встал. – Спасибо всем. Спасибо за приятное знакомство… Если нет каких-либо просьб, пожеланий, разрешите откланяться!
— Ваше высокоблагородие, – спохватился Сверчков, – а нельзя ли баньку организовать? Люди столько суток на ветру, на морозе… Как же не застудиться? Так и до беды недалеко. Баньку бы, Иринарх Владимирович! Да с хорошим веничком, да с добрым русским паром!
— Баньку, говорите?
— Дело говорит Сверчков! — неожиданно поддержал подконвойного командир отряда. – Добрая банька нам всем бы не помешала!
— А что, господин Шахов, — Евсеев заинтересованно взглянул на солидного господина с аккуратно выстриженной русой бородкой, сидевшего у стены всё в той же позе – нога за ногу, – сможем порадовать людей хорошей русской банькой?
Шахов наконец-то оставил свои ноги в покое.
— Как будет угодно, Иринарх Владимирович!
— Давай-ка, дорогой Семён Прокопьевич, уважим гостей. Организуй. Обяжи как городской староста. Так и объясни, Евсеев, мол, распорядился объявить в городе банный день…