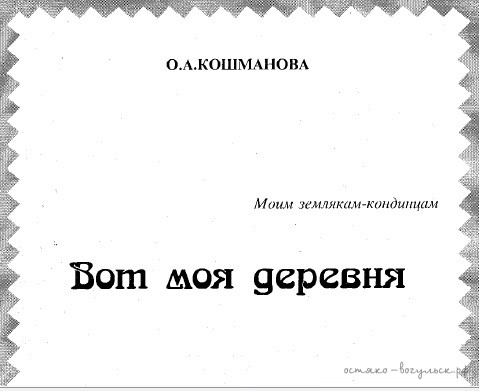Н.П. Родионов
Ликвидация
…Начиная с 1927 года зажиточные хозяйства стали зажимать, облагать непомерными налогами. Эту работу предоставлено было проводить неимущим, у которых не было ни кола, ни двора. Поэтому они брались очень активно. Им завсегда перепадало на перепой.
Как происходила ликвидация частных зажиточных хозяйств, я показываю на нашем хозяйстве. Во-первых, нас стали приневоливать к сдаче хлеба государству и запрещать вывозить его на рынок. На проезжих дорогах выставлялись посты из неимущих и, если хлеб везли на рынок, его реквизировали, а хозяев на несколько дней сажали в карцер. Жителям доводили план на сдачу хлеба государству и если те его не сдавали, то закрывали ворота, окна и объявляли «бойкот». Члены семейства не имели права выходить из дома, и к ним запрещалось входить. Скот оставался без корма и водопоя. Это продолжалось несколько дней, и было много случаев падежа скота.
Впоследствии это отменили. К нам же применили другой метод. Летом 1927 года перемерили посевные площади и установили, что у некоторых были излишки, а у других — недостачи. Этот излишек стали квалифицировать как укрывательство от налога, а недостачу — как обман государства путем приписки посева. У нас был установлен излишек около 0,5 гектара. За это было реквизировано две рабочие лошади, две дойные коровы и 10 овец. Весь скот, собранный у жителей, передали рождественскому колхозу, в котором наш дядюшка Дубровин Е.И. был членом правления. Некоторые дальновидные мужики стали сокращать свои хозяйства. Об этом говорили и нашему отцу. Лавров П.В. с соседнего хутора предлагал распродать все и уехать подальше от родных мест, так как жить своим хозяйством нам все равно бы не дали. Но наш отец, а тем более мать и бабушка слушать об этом не хотели. Говорили, что за ликвидацию хозяйства нас все просмеют. Скажут, что растранжирили нажитое дедами. Наши деды здесь похоронены, никуда отсюда не поедем. Нами был продан только один жеребец.
Весной 1928 года приехал милиционер и опечатал все наши амбары, а через несколько дней подогнали подводы и реквизировали весь хлеб, около 1500 пудов. Оставили только на семена. Это было проделано в четырех хозяйствах нашего сельсовета для устрашения других, чтобы добровольно везли хлеб государству. В этом же году, летом, под мотивом того, что у нас изъяли только 1500 пудов хлеба, а должны были — примерно 2000, изъяли еще и большую часть скота, а также весь сельскохозяйственный инвентарь. Оставили только постройки, двух лошадей, двух коров и 10 овец. Остальной скот и инвентарь отправили в рождественский колхоз, так как там не оказалось ранее взятого скота: часть его погибла с голоду, а часть поели колхозники. Но большинство жителей, в том числе и наши родители, продолжали держаться за остатки своих хозяйств, не зная никаких перспектив и надеясь на авось.
Непредвиденное свершилось в начале 1930 года. Из деревни Рождественка выехали бригады активистов, подобранные из любителей чужого добра, и предложили нам освободить свои дома. Мы в том, что было на нас, перешли к тетке Пелагее, а в наш дом заехал с семьей один бедняк, который до этого жил в землянке на хуторе Собачьем. В выдворении семейств из своих домов активно участвовала неимущая беднота, особенно по наущению старших — подростки-комсомольцы, в том числе отцов племянник Григорий Дубровин. Если кто пытался при выходе из дома взять что-то с собой, то они все нахально отбирали. Если на ком-то были новые валенки или шуба, то их снимали, а взамен давали свое бедняцкое барахло. Все это сопровождалось громким смехом и одобрением присутствующей бедноты. Григорий в выведении нас из дома не участвовал, но после, как знающий наши тайники, с сорванцами наподобие его перерыл все подполье и чердаки. Но спрятанного ничего не нашли. Затем он пытался сделать обыск в хозяйстве тетки Пелагеи, у которой мы жили, чтобы изъять наши вещи.
Со стороны бедноты к раскулачиваемым было совершено много грубых насильственных поступков, и в этом власть их поддерживала. Со стороны раскулачиваемых сопротивления никто оказывать не пытался, потому что люди были запуганы, старались не разлучаться со своими семействами и не попасть в застенки ГПУ. Припоминается случай в конце выселки. Уполномоченный ГПУ опрашивал хозяев из раскулаченных семейств, куда делись золотые вещи. Наш отец показал, что были только золотые карманные часы, принесенные им с фронта. Во время выдворения нас из дома один бедняк взял их себе в карман.
Тем, кто был выведен из своих домов, было объявлено под расписку, чтобы они из домов, куда их переселили, не отлучались. Въехавшие в дома стали распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом по своему усмотрению. Ненужное им вывозили в Троицк для продажи, а на вырученные деньги устраивали гулянки.
Высылка
Ко времени коллективизации весь наш хутор, состоявший из 17 дворов, был занесен в списки зажиточных. Осенью 1929 года трудоспособные мужчины с хутора в большинстве были мобилизованы на лесозаготовки. Под мобилизацию попадал и я, но в райцентре Увельском меня освободили, так как мне в то время шел 16-й год. В то время на хуторе все были охвачены страхом, не зная, что будет с ними завтра. Беднота, занимавшая кулацкие дома, пьянствовала, устраивала дебоши, надругательства над коренными жителями хутора и драки между собой. 27 февраля 1930 года наших стариков предупредили, чтобы были готовы завтра поехать в ссылку. С собой разрешили взять один комплект верхней одежды и несколько пар белья, запастись продуктами за счет родственников на 10 дней. Ночь на 28 февраля 1930 года прошла в приготовлениях к неизвестной дороге, в слезах и заботах. Что нам готовит новая жизнь?
Утром все семейство: бабушка, которой в то время было 80 лет и которая почти ничего не видела, Егор в возрасте одного года и Лина (Нина) в возрасте пяти лет пошли проститься с нашим домом. Новые жители дома нас ни в чем не оговаривали. Отец попросил нас присесть на лавку. Потом мы встали, помолились Богу, а отец сказал: «Не обижайтесь, покойные предки, на нас. Переданное вами хозяйство мы оставляем не по своей воле». А жителям дома сказал: «Живите в добром здоровье. Мы на вас не в обиде. Так, видимо, Богу угодно». После этого все вышли за ворота, немного постояли, еще раз посмотрели на дом с пристройками и пошли готовиться к отъезду.
На семейном совете было решено бабушку Пелагею ввиду ее слабого здоровья оставить у ее дочери тетки Пелагеи, и если наша жизнь устроится, то отец обещал приехать за ней. А больше надеялись, что нас вернут обратно. Далее началось расставание с ближайшими родственниками. Бабушка нас всех благословила по старому русскому обычаю — иконой. Было много пролито слез. На проводах, кроме хуторских тетки Пелагеи с сыном Василием, который провожал нас до Увелки, и семейства Дубровина Е.И., никого не было, так как отдаленные родственники не знали о дне нашей высылки. В Рождественке для укутывания малышей
нам дали изъятые у кого-то ранее шерстяное и ватное одеяла и самовар. Но последний в Увелке отобрали, сказав, что чай не обязательно пить из самовара, можно и из чугуна.
По Рождественскому сельсовету к высылке нас собрали несколько десятков семейств и окружили верховым конвоем из неимущих комсомольцев. При выезде из деревни вновь учинили обыск. Если у кого оказывалось недозволенное, отбирали. К высылке на станции Нижнеувелка нас собралось из нескольких сельсоветов, видимо, столько, чтобы полностью загрузить эшелон. Вагоны были товарные. Их после погрузки закрыли замками. Поступили с нами как с великими преступниками, но народ терпел, даже и не думая оказывать какое-либо сопротивление. На станции нас под охрану взяли сотрудники ГПУ. В наших вагонах были двухъярусные нары, и нас натолкали, как селедку в бочки. Места было мало, лежать было невозможно, могли только стоять и сидеть. Для опорожнения кишечника дали ведро, куда ходили мужчины и женщины. Из нашей среды выбрали двух человек, которых на больших станциях выпускали, чтобы они приносили воды и выносили испражнения. Куда нас везут, нам было неизвестно.
Примерно через двое суток дали команду выгружаться на станции Тюмень. Нас, как преступников, окружили верховые ГПУ и объявили, что мы не имеем права никуда отлучаться. Позже подали подводы. На нашу семью полагалась одна телега с лошадью. Всего же обоз состоял более чем из 300 подвод, которые взяли путь по Тобольскому тракту. Верховой конвой нас проводил только за окраину города, а далее сопровождали человек пять конвоиров, ехавших в обозе. В каждом населенном пункте нас встречали вооруженные бедняки и провожали до конца своих сел. Там, где предназначалась ночевка, размещали по домам, жителям было приказано спрятать топоры, вилы, чтобы кулаки-бандиты не смогли поубивать местных жителей и охрану.
Погода стояла холодная, морозы доходили до минус 35-40 градусов. Многие пообморозились и попростывали, на каждой остановке стали оставлять умерших человек до десяти. Умирали особенно дети грудного возраста. Всех мертвецов сносили в одно место, обычно в церковь или часовню, и оставляли без погребения родственниками. Обоз же продолжал следовать. У нас малышей было двое: Гоша одного года и Лина пяти лет. С ними в санях поочередно находились мать с отцом, стараясь укутать и сберечь их от холода. Остальные шли пешком.
Езда от Тюмени до Тобольска продолжалась восемь суток. Каждый день проезжали более 30 километров. Теплой одежды было недостаточно, очень многие простыли и при приезде в Тобольск заболели разными простудными заболеваниями. Нас поместили в Тобольском кремле, в главной церкви. Мы узнали, что до нас не выдержали наскоро сколоченные из досок четырехъярусные нары, несколько человек искалечило, некоторых задавило насмерть. Эта церковь служила пересыльным пунктом. Через двое суток нас перевели в другие церкви, находящиеся на горе. Там также были выстроены трехъярусные нары. Мы своей семьей расположились на третьем ярусе.
Дорога как в вагоне, так и на лошадях не прошла бесследно для нашего семейства. Мы перенесли грипп, а Гоша перестал ходить. Дорожные невзгоды и жизнь в тесноте, смраде, на сквозняках, продолжали отражаться на здоровье. Люди ежедневно умирали. Мне пришлось много участвовать в рытье могил и похоронах родных и близких людей. За время дороги и жизни в Тобольске осталось мало семейств, которые не потеряли родственников. Некоторые хоронили по нескольку человек. У нашего Родионова Андрея Васильевича умерло четверо. В нашем семействе все время продолжал болеть Егор, мать несколько раз была с ним в больнице.
В Тобольске таких, как мы, ссыльных было в несколько раз больше, чем местных жителей. Заполнены были все церкви, общественные здания и переполнены частные квартиры. В Тобольске мы прожили около двух с половиной месяцев. В продуктах особой нужды не ощущали, так как деньги были почти у каждого, а на рынке можно было купить муки ржаной и ячменной, картофеля и других продуктов. Работать заставляли мало, и мы, молодежь, свободное время проводили на берегу Иртыша и у памятника Ермаку.
Второго мая из Тюмени пришел пароход «Китай» с нашими мужчинами, которые были мобилизованы на лесозаготовки, а семьи выселены без них. 13 мая наш корпус (церковь) предупредили, чтобы мы были готовы для погрузки на пароход. 14-го подали несколько подвод для доставки маленьких детей и больных, а остальным было приказано на пристань идти пешком. Поместились на пароходе «Воткинский завод», большая часть людей в трюме, а в третьем классе — матери с маленькими детьми и больные. На верхнюю палубу вход нам был запрещен. С нами вместе погрузились семейства Родионовых Ивана Ивановича и Андрея Васильевича, жившие на частных квартирах, чтобы ехать на Север вместе с родственниками. Но их сняли с парохода и увезли в тобольский изолятор. Усиленный конвой охранял нас в пути. Сходить с парохода разрешалось только людям, специально назначенным на доставку дров для топки парохода.
16 мая 1930 года на рассвете на пристани Цингалы примерно третьей части ссыльных, в том числе и нам, приказали выгрузиться на берег.
На новом месте
Пристань была на той же стороне, что и деревня Цингалы, но их разделяла протока, переправляться пришлось на лодках. Эта первая в жизни езда на лодках для нас, молодежи, была очень интересной. Работники ГПУ, которые высадились с парохода вместе с нами, с участием местных властей расселили нас по домам местных жителей. Нас поселили к Чагорову Павлу Маркеловичу, по национальности остяку. Перед этим в Цингалах было общее собрание, на котором представители ГПУ предупредили, что к ним в скором времени привезут тунеядцев, нарушителей общественных порядков, поэтому местным жителям следует спрятать оружие, топоры и даже ножи и вилки. Хозяйка дома Мария Ивановна разговаривать с нами избегала. Но на другой день с рыбалки приехал хозяин дома Павел Маркелович, который приветствовал нас как пострадавших и этим положил конец недоверию.
В деревнях Севера принудительная коллективизация еще не началась, хотя колхозы были почти в каждой деревне. Они были организованы из бедноты и особого влияния на население не имели. Жители жили при полном расцвете своих частных хозяйств. Местная молодежь почти каждый вечер собиралась для игр на специальную площадку, но нам через несколько дней запретили навещать площадку и клуб, чтобы мы не общались с местной молодежью. Нас разбили на десятки и выбрали старших, чтобы они каждый день докладывали о нашем нахождении коменданту. Кроме того, и хозяева, у которых мы жили, об исчезновении кого-либо из нас немедленно должны были доложить коменданту. На пристанях были выставлены комсомольские посты, они запрещали нам входить на пристающие пароходы. Всех способных к труду назначили на заготовку дров для пароходов на лесомассивах Чугас и Перевесная грива. Оплата за работу не производилась, отоваривали мукой.
В начале июня 1930 года переселенцев, способных работать, направили для постройки поселка. Мы ехали в нескольких больших лодках (неводниках) и к вечеру остановились у рыбацкой избушки на берегу рыбацкого сора (где впоследствии сделали кладбище). На следующее утро, когда стали осматривать место для поселка, назначенное цингалинской партийной организацией, оказалось, что это место омывается со всех сторон речками. Наши старики просили, чтобы это место заменили на другое, так как здесь некуда было выгонять скот и негде разводить огороды. Комендант с партийцами, что сопровождали нас, посовещавшись, разрешили переехать на левый берег первой речки. Наши стали просить выбрать место на одной из возвышенностей (грив), ближе к Цингалам. Тогда комендант выхватил из кобуры наган, стал им размахивать и угрожать тем, кто смеет протестовать против постройки поселка на месте, указанном им.
Для строительства из деревни были выгнаны все — и старики, и подростки. Вначале выстроили здание комендатуры с карцером и склад для продуктов, а далее начали строить дома размером 6×7 метров. Какая-либо техника отсутствовала, все работы выполнялись вручную. Работать приходилось с утра до вечера по 14-16 часов в сутки. Кормили в основном ржаным или ячменным хлебом (600 граммов) и кашей из перловой крупы. Иногда подмазывали постным маслом.
Всякий выход со стройки был запрещен. Если кто был замечен в слабой работе или нетактичном разговоре с начальством, того лишали дневного пайка хлеба или каши, а иногда и того, и другого вместе. Очень часто на ночь сажали в карцер. Многим приходилось питаться ягодами и грибами. Никакой одежды и обуви не выдавалось, а та, которая была привезена из родных мест, приходила в негодность. Бани не было. Вши ходили табуном. Не было и никакой медицинской помощи. Очень многие страдали желудочными болезнями. Серьезно заболевших отправляли в Цингалы, где был фельдшер.
К концу лета выстроили около 60 домов. В сентябре дали команду переселить в поселок все семьи ссыльных. Это было поручено активистам деревни Цингалы. Они нахальным образом, невзирая на протесты хозяев домов, говоривших, что переселенцы им не мешают, выталкивали из домов стариков, детей, больных и гнали их в поселок пешком. От первых прибывших на стройку мы узнали, что наших стариков и малышей гонят, как скот. Уже темнело, и мы поспешили родственникам навстречу. Мать я встретил километра за три от стройки. Она несла на руках полуторагодовалого Егора и узелок с продуктами, а за ней шла шестилетняя Лина, которая также несла узел с разными вещами.
В поселке разместились в только что построенном доме, в котором лежать было негде. Спали сидя, дети — на руках у взрослых. Дома в большинстве были некрытые, так как продольные пилы пришли с большим опозданием. На другой день пошел дождь, и все дома стали промокать, с потолков побежала вода вместе с грязью. Когда был напилен тес, им закрыли крыши домов. Часть семейств отправили обратно в Цингалы. Нам же на четыре семейства дали отдельный дом с двумя небольшими окнами. Мы этому были очень рады: стало тепло и с потолка больше не бежало. Такая скотская жизнь для многих не прошла бесследно. Многие переболели простудными заболеваниями, наш Егор опять перестал ходить. Так как хлеб давали строго ограниченно, все, не жалея сил, старались запастись ягодами и грибами, чтобы зимой не умереть с голоду.
В ноябре 1930 года трудоспособных мужчин, женщин и подростков отправили на лесозаготовки в Денщики по речке Бобровка. Детные матери и ветхие старики производили заготовку леса в поселке. Я угодил на лесозаготовительный пункт Кожурка вверх по речке Бобровка. Там стояли два ветхих барака, в которых мы прожили всю зиму, круглосуточно топя чугунные печки. Кормили нас более сносно. К тому же мы покупали у местных жителей лошадей на мясо. За работу денежной оплаты не полагалось. Продукты выдавались по списку. Тем, кто оказывался совершенно босой или с грешным телом на виду, выдавалось что-нибудь из обуви и одежды, в том числе и мне были выданы бродни малого размера. Так как наворачивать на ноги было нечего, то в январе 1931 года в мороз более 40 градусов на вывозке леса я ознобил правую ногу и был отправлен в поселок. Специального лечения не было. У меня сошли ногти, а пальцы болели до апреля.
В поселке, который назвали Черемуховским, жизнь шла своим чередом, продолжали лесозаготовки. Продуктов давали граммы. Комендант давал увольнительные в местные деревни для покупки лошадей и другого скота на мясо и обмена вещей, привезенных из дома, в основном на ячмень, который на жерновах рушили на крупу и муку. У нас мама в течение зимы ходила несколько раз, выменивала по нескольку ведер ячменя и привозила на санках. Отец также ходил в деревни, где покупал на мясо лошадей, которые были дешевы, так как и в Сибири началась принудительная коллективизация, и жители старались за бесценок избавиться от своего скота. Благодаря обмену и покупке мы в течение зимы особой голодовки не пережили.
В первой половине апреля 1931 года часть рабочих с лесозаготовок была отозвана для продолжения строительства поселка, а часть — на лесосплав. Я попал в группу из 20 человек, которая направлялась на реку Конду. Из поселка мы вышли 19 апреля 1931 года, имея за спиной котомки с продуктами, бельем и постельными принадлежностями. На полях снега уже не было, сохранился он только в лесах и логах. На Иртыше лед еще не подняло, но уже были забереги, которые мы приспособились переходить по жердям.
До деревни Заводные в основном шли Иртышом, а далее прямиком на Конду лугами и лесами. Когда шли по Иртышу, то лед был шершавым, и обувь у всех продырявилась. Ноги завсегда были мокрые, а когда пошли лугами, то оказалось, что лога стоят полные воды и снега, так как в Иртыш они еще не протекли. У нас не было другого выхода, как только идти вперед. Несколько логов пришлось переплывать нагишом по воде и снегу. Когда подошли к Конде, солнце клонилось к закату, река разлилась на три-четыре километра. Русло реки Конды мы пересекали на лодках, которые нам подали жители деревни Реденькая, а затем и разместили нас по квартирам. Впоследствии все участники этого перехода страдали ревматизмом. У меня сначала на ногах было много проломов (чирьев), а далее каждую весну болели ноги, движение было стесненным.
По Конде на лесоучастках Урвант и Чилимка мы подготовили лес к сплаву, а при разливе реки сплавляли его в деревню Тюли, на берег Иртыша. Кормили на лесосплаве более сносно, но и работать приходилось по 16-18 часов, а в разгар сплава не спали почти трое суток. Наши одежда и обувь продолжали оставаться ремковатыми. Замена выдавалась только в исключительных случаях, когда человек оказывался совершенно босой или нагой. Я на Урванте получил бродни, а после в Тюлях — пару белья. Этому был очень рад. Зарплату деньгами не выдавали. Учет накопления зарплат вообще отсутствовал. Продукты и вещи получали по списку.
После сплава леса из рек Конда и Бобровка все рабочие были направлены в поселок. Одни продолжали строить дома, других назначили тесать клепку на бочки. Не считаясь со своим здоровьем, большинство поселенцев старалось раскорчевать площадь под огород, посадить картошку и посеять лен. Чтобы только обзавестись семенами, многие отдавали последние вещи, так как в питании вся надежда была на картошку, а лен требовался для ткани на белье и одежду. Впоследствии те, кто этим занимался от души, когда для нас наступил критический период, пережили его гораздо легче, чем те, которые к обзаведению картошкой, льном и скотом относились с прохладцей. Рыбу ловить нам категорически было запрещено, потому что местных жителей обязали выполнять государственный план по заготовке рыбы, и все водные угодья были закреплены за ними. К тому же у нас не было и рыбацких ловушек.
Жизнь становилась все мрачнее, так как комендант и прочий персонал издевались над нами. Нас поставили в положение скота. Что-то требовать в свою защиту мы не имели права. За высказывание своих обид или невыполнение норм выработки лишали пайка хлеба, сажали в карцер. Кроме того, открылось строительство городка, который впоследствии назвали Ханты-Мансийск. Там была устроена колония штрафников, и неугодных коменданту на целый месяц направляли туда. Многие там умирали от непосильной работы и голода. Те же, кто возвращался, были настолько истощены, что падали от ветра. Были случаи побега из ссылки. Одних отлавливали и возвращали в свои поселки, другие погибали в тюрьмах. Были и счастливчики, которые под другими фамилиями оставались жить на свободе в других областях страны. Для пресечения побегов коменданты усиливали свой деспотизм. Нам запретили выход из поселка за продуктами в местные деревни.
Однажды с разным барахлом для обмена мама и еще две соседки пытались пройти в деревню за картошкой и ячменем. Об этом узнал комендант, догнал их за восемь километров от Цингал и отобрал все вещи. Сам ехал в кошёвке, а их гнал обратно до поселка впереди себя. Мы очень боялись, что их отправят в штрафную колонию, но так как у всех были малолетние дети, то комендант ограничился нотациями и вещи отдал обратно.
В начале 1932 года у моих родителей народился сын Иван. Если раньше появление ребенка, да тем более сына встречали с радостью, то теперь отнеслись сдержанно. Но что поделаешь — природа не считается с нашими нуждами. Семейные недостатки увеличились. Недостаток в хлебе был неимоверно велик. Картошки накопали мало и старались ее сохранить на семена. Я при семействе находился мало, жил в отдаленности — в Бобровке, Реполове, Ярке и других населенных пунктах на лесозаготовках. Помощь семейству оказывал мизерную. Хотя с 1932 года за работу нам стали платить, но очень мало, и все деньги уходили на покупку продуктов в основном на стороне, у местных жителей. На лесозаготовках иногда стали давать выходные дни, которые в основном использовали для закупки продуктов у местных жителей. Немного стали давать мануфактуры и одежды. Это была очень нужная подмога в жизни. Я всегда числился в списке передовых рабочих, и поэтому иногда удавалось получать побольше.
Колхоз
В 1932 году стали организовывать колхоз. Приказали всем явиться в клуб, избрали президиум общего собрания, и комендант объявил, что с сегодняшнего дня должна быть организована неуставная сельхозартель. Для этого требуется, чтобы каждый глава семьи, а если таковой отсутствует, то член его семейства расписался в списке вступающих вновь в члены сельхозартели. Средства для вновь созданной артели должны были создаваться путем отчисления 12% от зарплаты работающих на лесозаготовках и объединения всех лошадей, коров сверх одной и всего молодняка, который был у жителей. На этом же собрании комендантом был назначен председатель артели — один из подхалимов, сочинитель разных доносов К.Е. Муцев. За все время существования поселка он только и знал, что составлять доносы на честных людей. Если же кто не подписался в списке поступающих в члены артели на общем собрании, то на другой день он это сделал в комендатуре. А некоторые были отправлены в самаровскую штрафную колонию.
Укрепление колхоза за счет отчислений от зарплаты работающих на лесозаготовках и сдачи скота-молодняка продолжалось около трех лет. Наш отец сдал в колхоз лошадь, которая была куплена для хозяйственных работ и вывозки леса с лесоучастка, и каждый год сдавал по одному выращенному теленку в возрасте шести месяцев. Работу в колхозе в зимнее время выполняли детные матери и ветхие старики, а в летний период для раскорчевки под пахотную землю, посева и заготовки кормов с лесоучастка пригоняли нас, то есть трудоспособную рабочую силу. Оплаты за выполненную в колхозе работу никакой не производилось. Выходные дни были сведены до минимума. Об отпусках мы не имели представления. Поскольку летом лесозаготовки были сокращены ввиду переброски рабочих на сельскохозяйственные работы, то недовыполненный план переводился на зимний период. Поэтому всегда был срыв лесозаготовок, и нас приневоливали без выходных штурмовать зимой лесозаготовки, а летом — сельскохозяйственные работы.
Таким образом в колхозе было раскорчевано около 500 гектаров пашни: на участке Чембакшинский остров — более 100 гектаров, на горе напротив Цингал — 17 гектаров, в Цингалах около деревни — 100 гектаров, на Ближнем Чугасе — около 10 гектаров, на речке Ярка — 30 гектаров. Остальная пашня — за летним сором от поселка в сторону деревни Слушка и в бору между первой и второй речками. Впоследствии во время землеустройства в 1937 году пашни, нами раскорчеванные и обработанные, передали на острове — чембакшинскому колхозу, за Иртышом, на Ближнем Чугасе, возле деревни и на Ярке — цингалинскому колхозу. Но около поселка раскорчевка продолжалась до 1941 года, а в бору, между первой и второй речками, как на незатопляемой возвышенности, — до 1946 года.
Осенью 1931 года мы, в основном молодежь, были направлены в деревню Реполово для заготовки дров для пароходов. Лесоучасток находился в пяти километрах ниже Реполово, на другой стороне Иртыша. Для житья были перевезены амбары. Поставили их вместо мха на сене и в этих бараках провели всю зиму 1931-1932 годов. Начальник лесоучастка был Пасынков В.П. Он относился к нам по-человечески и от своих подчиненных требовал, чтобы нас все же считали за людей. Была выстроена баня. Это впервые из всех лесопунктов. За работу стали нам выплачивать деньги, отоваривать мануфактурой. Хлеба выдавалось 500-600 граммов на день. Но мы продолжали питаться и за счет местного населения, у которого на мясо покупали лошадей и другой скот, а также картошку. Поэтому голодовки особой не ощущали.
Осенью 1932 года были направлены на лесозаготовки в деревню Денщики на речке Бобровка. Сначала выстроили бараки, а далее приступили к лесозаготовкам. В это время коллективизация местного населения в основном была закончена. Индивидуальные хозяйства были ликвидированы, и мы лишились источника приобретения продуктов со стороны, а государственное питание продолжало сокращаться. С этого периода у нас началось систематическое недоедание, а также стал усиливаться комендантский деспотизм. Он выражался в том, что за невыполнение нормы выработки лишали пайка продуктов, отправляли на ночевку в холодный карцер или в штрафную роту (село Самарово). Была и «привилегия» — за перевыполнение нормы выработки добавочно давали поварешку баланды.
Я работал на лесоповале, где возглавлял бригаду из восьми человек. Все работы производились вручную, рабочие были расставлены в следующем порядке: с утра две пары — на валке с корня, далее одна пара на валке с корня, другая — на очистке и уборке сучьев, третья — на кряжёвке (разделке) хлыстов деревьев и четвертая пара — на сжигании сучьев. Делянки от бараков находились за 4 -6 километров. День начинался в 6 часов утра, в 6-30 получали суп с кухни (столовых не было) и ели на нарах. В 7-00 — выход из барака на работу. На месте работы снимали телогрейки и работали в одних гимнастерках всегда с повышенной скоростью. С утра одолевал пот, к обеду пот прекращался, а к вечеру, хотя и работали с такой же скоростью, начинали мерзнуть. Иногда надевали телогрейки. Работали без остановки на перекур и без обеда, так как есть было нечего. Пайки хлеба, которые получали, съедали утром и вечером.
В барак разрешалось возвращаться не раньше 7 часов вечера. При приходе с работы в барак сначала устраивали одежду для сушки около печек. Далее шли получать хлеб, который выдавался каждый день, так как на большее время выдавать было нельзя, хлеб, выданный на три дня, съедался за один. После этого получали похлебку, которая в основном готовилась из мерзлой картошки и капусты, иногда с конским или скотским мясом. Далее — всякие политзанятия. Мы должны были знать наизусть происхождение Сталина, Молотова, Ворошилова и других. Был организован ликбез, и это все делалось по принуждению. Мы были истощены и обессилены работой, и для нас был очень дорог покой, а не жизнь Сталина. Каждый вечер нужно было к завтрашнему дню наточить пилы и топоры. Выходные дни отсутствовали. Разрешали не выходить на работу при температуре ниже 45 градусов мороза. Тем не менее многие ходили в такие дни на заготовку дров для отопления бараков. За это давали дополнительную пайку хлеба и порцию баланды.
Весной 1933 года, когда был приостановлен зимний санный путь для вывозки леса, рабочих перебросили на строительство поселка и раскорчевку под пашню. Я с частью рабочих в количестве 20 человек был оставлен в Бобровке для подготовительных работ к сплаву леса, а впоследствии и самого сплава леса. Когда распалились (разлились) реки Иртыш и Бобровка, то на сплав приехало много вольных людей с южных областей. Они в родных деревнях прокутили все награбленное во время раскулачивания и поехали искать легкой жизни. Их называли летунами. Они в Бобровке организовали бригаду человек из 20 и заключили договор с администрацией на перевоз всего леса в устье Бобровки. Наша работа заключалась в том, чтобы вес лес с берегов скатить в русло речки. Кормить нас стали лучше, выдавали рыбу, и мы со своими обязанностями справлялись с честью. Бригада же летунов продвинула лес только до Бобровских соров. Там ветер разогнал лес по всем берегам. Видя, что работа им непосильна, и получив большую долю зарплаты и продуктов, они в одно время смотались неизвестно куда. Нас же обязали весь лес с берегов соров собрать и доставить в устье речки. Тогда нам пришлось в сутки спать по 4-5 часов, а остальное время работали по продвижению леса. Эту работу мы выполнили до спада воды.
Остальное время лета мы производили выкатку леса на берег Иртыша. Выкатка леса производилась на лошадях, взятых по мобилизации сельсоветами у оставшихся частных жителей. Работа шла дружно. Питались более сходно, хотя и не досыта. Но летом было много разных грибов, и нам это было большим подспорьем к норме продуктов. В это время голод начинал более широко действовать и среди местного населения. Особенно он стал ощущаться в поселке. Об этом мне писал отец. Они испытывали большие трудности в продуктах. Питались в основном травой. Тогда я пошел в деревню Денщики и выменял одно ведро ячменя за пять метров сатина, который мне дали за сплавные работы, а впридачу крынку простокваши. Ячмень я переправил в поселок. Впоследствии часто мать вспоминала, что этот ячмень очень помог им в самый тяжелый период голодовки.
Осенью 1933 года нас перебросили на Чембакшинский остров для уборки урожая. Урожай был хороший. За неимением машин рожь, ячмень и овес жали серпами, а впоследствии косили литовками. Картошку копали лопатами. Для контроля над нами были присланы комсомольцы, в обязанность которых входило наблюдение, чтобы мы без разрешения не съели картошку, в результате получилось так, что мы, убирая урожай, были полуголодными.
С острова Чембакшина нас перебросили на лесозаготовки в район речки Ярка. Кроме рабочих из нашего поселка, человек триста были пригнаны километров за 250-300 из спецпоселков, расположенных по берегам Оби. Многие из них еще во время перехода (лошади давались только для доставки вещей) познобили себе лица, ноги и руки. Медицинское обслуживание оставалось прежним. Отвечал за него фельдшер с четырхклассным образованием и шестью месяцами специальной медицинской подготовки. Основные медикаменты отсутствовали. Люди, получившие обморожения, продолжали болеть всю зиму и в таком состоянии работать на лесозаготовках. А весной несколько человек были отправлены в Самаровскую районную больницу, где им ампутировали пальцы, а некоторым даже ноги. Не ходить на работу было нельзя, потому что за это лишали пайка хлеба, а гэпэушники сажали в карцер. Голод был в самой наивысшей форме. Нам с поселка Черемуховского все же привозили молоко, картошку, а рабочие, прибывшие с низовых поселков, жили только на одном пайке. Из них некоторые доходили до крайнего истощения и от усталости не могли прийти с делянки. Их привозили на лошадях и после этого поддерживали — немного увеличивали порцию супа или переводили на подсобные работы. На помойках кожура картофеля, выброшенная с кухни, была вся собрана голодающими и употреблена в пищу. Была масса краж друг у друга хлеба и продуктов. При поимке здесь же учиняли расправы. Били чем попало. У людей было подавленное настроение, но обиды своей высказать они никому не могли. Малейшее неповиновение — и таких отправляли в штрафную роту или лишали пайка продуктов.
Весной 1934 года для укрепления нашего спецколхоза меня и еще несколько человек направили в поселок. Все лето работал по уходу за лошадьми и на других работах. Зимой выезжал на лесовывозку бригадиром на колхозных лошадях. Осенью 1934 года было объявлено с большим шумом об отмене карточной системы на продукты, но поначалу эта реформа для нас вышла боком, так как хлеб стали давать без карточек, но установили лимиты. На день установили продавать 50 килограммов. Первые подоспевшие все разбирали, а остальные оставались совсем без хлеба. С самого вечера стали скопляться очереди, происходили скандалы, и это продолжалось не один год.
Артель продолжала укрепляться и в конце 1934 года занимала одно из первых мест в округе, но оставалась неуставной, и мы продолжали отчитываться только перед комендатурой. В это время председателем колхоза был назначен Сергеев М.К. Он был в разговоре человеком жестким, но его уважали за прямоту. Он нерадивым высказывал правду в глаза и меньше сочинял доносы в комендатуру. С 1935 года зерно, в основном ячмень, и деньги — копейки — стали распределять по трудодням.
В конце марта 1934 года с лесного участка Ярка я был отозван комендантом на колхозные работы в поселок, а затем был направлен учиться на конюха в деревню Заводные. Здесь со всего района были собраны по два человека от каждого колхоза учиться: один на животновода, другой — на конюха. Из нашего поселка на животновода учился Белоносов Иван, который был в одних годах с моим отцом. По тем временам он был очень грамотный и много читавший. За время первого месяца учебы и общения с грамотными людьми я усвоил пути к грамоте. На зачетах я получал самые высокие оценки среди учеников и сдал экзамен на заведующего конной фермой. При возвращении в поселок стал работать конюхом и одновременно летом участвовал в заготовке кормов, а зимой выезжал на лесозаготовки для вывозки леса на колхозных лошадях.
Весной 1935 года у нас в семействе народилась Аня. В это время голодовка отступила, народ стал жизнерадостным. В поселке выстроили клуб, и молодежь стала собираться для разных увеселений. Иногда привозили кинопередвижку, конечно, немую. Мы стали встречаться с девушками и даже дружить. Некоторые стали сходиться для совместной жизни. Но свадьбы не справлялись, не было средств, и вообще коменданты следили, чтобы не было попоек и сборищ.
Осенью 1935 года я был направлен на вывозку леса на участок Реполово. Со мной поехала и моя девушка Феня, которая была моложе меня на два года. В конце 1936 года мы объявили своим товарищам, что будем жить совместно. Выпили литр водки, нас поздравили, мы при всех поцеловались. Написали письма родителям, как моим, так и ее. С этого времени мы стали мужем и женой. В течение зимы справили три таких свадьбы на нашем лесоучастке Реполово. Работа шла без выходных, так как было отставание от выполнения плана лесозаготовок. Производились всякие пожертвования: то на Испанскую республику то еще куда-нибудь. Не давали выходных нам и на свадьбы, этому акту не придавалось никакого значения. Начальство говорило, что государственные дела превыше всяких личных прихотей. Мы же были в расцвете физических сил и старались с уважением относиться к нашей любви. Наша семейная жизнь пошла радостно. Мы проявляли заботу друг о друге. Но это длилось недолго.
Окончание следует…