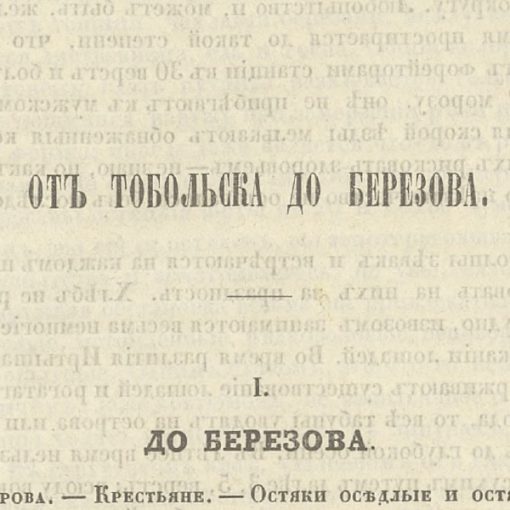Н.П. Родионов
Инвалид
Речка, по которой была проложена дорога для вывозки леса, стала затоплять дорогу, и воза, нагруженные кряжами, часто застревали в воде. Поэтому мы выстроили мост через реку длиной 10 метров и шириной около трех метров. При окончании работ мы, 4 -5 человек, стояли на одном конце моста и закуривали. Другие же с другого конца моста стали подниматься в гору. Из нашей группы один рабочий закричал одному их тех, что поднимались в гору: «Васька, у тебя топор мой! Зачем ты его понес?». Тот же, убедившись, что топор не его, вместо того, чтобы поднести и подать в руки, закричал: «Берегись!» — и бросил топор с большой силой. Топор угодил мне в спину. Я упал, почувствовал небольшое потемнение в глазах и перестал ощущать нижнюю часть туловища. Когда меня подняли, подо мной оказалась кровь. Я попросил, чтобы меня в том месте, где просечено, перетянули шарфом и скорее везли в больницу.
В больнице деревни Реполово врач наложил мне на рану семь скобок и сказал: «Товарищ Родионов, твои дела плохи. Видимо, задет спинной мозг». Это случилось 5 февраля 1936 года. С этого дня полноценная моя жизнь прекратилась навсегда. Я стал только существовать.
Больница в Реполово находилась в частном доме. На койку меня положили под вечер и разрешили жене находиться рядом. У меня произошла закупорка выделения мочи, которую выводили через катетер. Нижнюю часть туловища я совершенно не чувствовал, и нижние конечности были без движения. На второй день поднялась температура до 40 градусов. Было установлено, что произошло воспаление мочевого пузыря. Далее моча пошла самопроизвольно. На пятый день стали немного шевелиться пальцы правой ноги. Через месяц Феня увезла меня в Самаровскую районную больницу. Здесь ей за мной ухаживать не разрешили, а поскольку выделение мочи было самопроизвольное, то я часто был мокрым, и у меня появились пролежни.
Мое несчастье очень взволновало родителей. Я же у них был основной опорой как материально, так и морально. В первые дни они приезжали в Реполово. Приехали и в Самарово. Это им стоило больших моральных и физических затрат: во-первых, добиться разрешения на выезд из поселка у коменданта, во-вторых, оставить малых детей одних, а главное — денежные недостатки. Мне выплачивали по больничному листу около 50 рублей в месяц. Родители работали в колхозе и получали копейки. Никакого лечения в Самаровской больнице я не получал, пролежни продолжали увеличиваться, поэтому на семейном совете было решено из больницы меня забрать. Отец, а тем более мать хотели меня вылечить с помощью деревенских знахарей.
В первых числах апреля 1936 года жена перевезла меня в деревню Тюли, и мы устроились у лекаря — одного деревенского старика. Он отваривал траву багульника, мыл икону, что-то шептал. После этого заставлял меня пить и мыть ноги. Мы у него прожили до начала мая. От лечения толку не было, а за эту «милость» он приспособлялся с нас получать побольше.
…В омской клинике и после выписки из нее я усиленно занимался гимнастикой ног. Правая нога стала немного меня удерживать, и я стал упражняться при помощи костылей. Когда все способы лечения в омской клинике были исчерпаны и я для них стал лишним, то есть безрезультатно занимал койку, меня направили в Свердловский физиотерапевтический институт. Здесь я окончательно убедился, что к нормальной жизни возврата нет. Я написал Фене: «К семейной жизни больше не возвращусь. На меня не надейся, а решай свою жизнь по своему усмотрению». Написал родителям, чтобы они не осуждали Феню, если она что-то предпримет. В Свердловске я пролечился месяц. Там также занимался электропроцедурами, а когда срок путевки закончился, меня направили в тюменскую районную больницу, чтобы при открытии водной навигации я смог уехать на Север к своим родственникам. В это время в Тюмени находился трест «Тюменьлес», и я обратился туда с ходатайством о том, чтобы дали мне путевку на один из курортов. В тюменской больнице я пролежал около четырех месяцев, не видя никого из родных и знакомых за исключением 70-летней старушки Мироновой М.И., которая жила с нами в поселке Черемуховском, а затем самовольно уехала в Тюмень к своим детям, которые не были высланы. Конечно, я был очень ей рад. Поговорил, как с родной матерью. Там же я получил от Фени письмо, в котором она извещала, что с великой грустью и во исполнение моей просьбы выходит замуж за одного из моих товарищей. Об этом же сообщили и родители. На этом навсегда закончилась моя семейная жизнь.
…В конце 1939 года меня выписали из больницы, и я вновь переехал в дом инвалидов. В этом же здании находилась бухгалтерия дома инвалидов. Свободного времени было много, и я попросился у бухгалтера в чем-нибудь ему помогать. Он охотно согласился и каждый день часа по четыре я стал работать в бухгалтерии. Помогая ему, одновременно осваивал счетное дело. Работа в бухгалтерии стала воодушевлять меня к жизни.
Живя в Томском доме инвалидов, я познал азы культуры. Побывал на спектаклях, был в кинозалах, цирке и зверинце. Родителям стал писать, что свою дальнейшую жизнь проведу в доме инвалидов. Но родители с этим не согласились и стали просить в каждом письме, чтобы приехал к ним, убеждали, что они меня не бросят, и у них жить буду не хуже, чем в несчастном доме инвалидов.
Снова в колхозе
В июне 1940 года, распрощавшись с друзьями по несчастью и сотрудниками дома инвалидов, на пароходе реками Томь, Обь и Иртыш я вернулся на Север. Родители, сестренки и братишки моему возвращению были рады. В поселке жизнь шла своим чередом. Колхоз стал приходить в упадок, потому что за работу ничего не получали, и работали за страх, чтобы не угодить в застенки НКВД. Работоспособная часть населения заключила договоры с леспромхозом и вместе с семьями уехала на лесоучастки. Во всех формах свирепствовала сталинская репрессия.
Еще в 1937 году, до моей поездки в Томск, было взято неизвестно за что 17 человек. От них не было ни одного письма, и ни один из них не возвратился обратно к семье. Все погибли в клешнях НКВД. Так к 1947 году из нашего поселка ликвидировали около 50 человек. Люди были морально подавлены, в свое оправдание боялись сказать какое-либо слово, чтобы их не объявили «вредителями».
Отец больше жил в Самарово с продажи колхозных продуктов. В мои же обязанности опять входил ремонт обуви и одежды для ребят. Кроме того, я поступил в колхоз кассиром и стал помогать счетоводу. На должности старшего счетовода в колхозе был молодой парень Мужев Герасим Прокопьевич, который по характеру был очень правдивый, за что его впоследствии объявили «вредителем». В конторе работали три человека, был еще старичок Федотов. Работа шла дружно, учет был поставлен на должную высоту.
В это время шла усиленная заготовка продуктов. По-моему, ее даже нельзя назвать заготовкой, а более подходит слово «реквизиция». С 1936 года были подняты списки, кто и сколько получил зерна, и каждому предлагалось сдать его на нужды государства. Для устрашения в нескольких хозяйствах был произведен обыск, а пять человек были объявлены «вредителями» и отправлены в самаровское отделение НКВД. Продажа хлеба и муки в магазине была прекращена, народ вновь стал испытывать недостатки в питании.
С колхозными посевами поступали следующим образом: во время созревания хлеба комиссия во главе с агрономом районного сельхозотдела или МТС устанавливала урожайность гектара и множила ее на общую площадь посева. Из этого минусовали семенной фонд и натуроплату, а остальное включали в обязательства сдачи зерна государству. Так как на наш северный район не распространялись планы госпоставки, от нас стали требовать принимать обязательство на сдачу зерна, которое утверждали на заседании правления и общем собрании колхозников. Осенью приехал уполномоченный из райисполкома, чтобы провести вышеуказанную формалистику по сдаче зерна. У нас к этому времени весь хлеб был обмолочен и известен валовой урожай. Получалось, что если мы выполним обязательства, доведенные райисполкомом, у нас самих не останется зерна, даже если мы сдадим и семенной фонд. Счетовод Мужев постарался это доказать по записям бухгалтерии, но ему сказали: «Ты политически неграмотный и закрой свою филькину грамоту».
Уполномоченный райисполкома вызвал представителя НКВД, в комендатуре вторично собрали правление колхоза и потребовали, чтобы оно сейчас же добилось от общего собрания решения о продаже зерна полностью по обязательству. Это и было сделано. А когда представитель НКВД поехал в Самарово, то увез с собой безвозвратно трех человек преклонного возраста, а счетоводу Мужеву приклеили кличку «вредитель», но ввиду его молодого возраста и того, что его некем заменить на работе, оставили дома. При отгрузке зерна государству обязательство мы не выполнили и за это лишились еще двух человек. НКВД людей забирал всегда ночью, и, ложась спать, каждый думал, минуют ли его в эту ночь.
В поселке была выстроена по типовому проекту начальная школа. У детей была большая тяга к учебе. Семь классов они заканчивали в деревне Цингалы, а продолжать учиться им не разрешали. Как комендант, так и правление колхоза старались создать всякие преграды, чтобы оставить молодежь навсегда работать в колхозе. Наша Лина успешно окончила семь классов в 1939 году. Учителями ей была дана рекомендация для поступления в Омский экономический техникум, и оттуда был прислан вызов. Но всех семиклассников отправили на дальний сенокос, на речку Ярка и запретили им выезд оттуда. Накануне начала занятий они самовольно с сенокоса сбежали и, не имея при себе справок с места жительства, крадучись уехали в Тобольск, где поступили в ветеринарно-зоотехнический техникум. Этот техникум оказался им не по душе, и большинство из них на другой год учиться в нем не стали. Наша Лина уехала в Челябинск к тетке Марии Родионовне и устроилась на счетную работу, на которой работает до настоящего времени. За самовольный уезд детей в техникум их родителей подвергали всяким унижениям, но, как мне припоминается, вредительство не приписывали.
Зима 1940-1941 годов выдалась снежной и холодной. В поселке остались только ветхие старики и детные матери, все остальные были посланы на лесозаготовки за 50 километров от поселка на речку Бобровка. Такой порядок, когда каждую зиму угоняли колхозников на лесозаготовки, продолжался до 60-х годов и окончательно расстроил жизнь в колхозах. Каждый год план колхозу давался с увеличением, а рабочих в поселке становилось все меньше и меньше, поэтому работать приходилось всем: старикам, старухам, подросткам и детным матерям — по 10-12 часов в сутки. За невыход на работу штрафовали снятием до пяти трудодней, невыдачей лошади для подвозки дров и сена. Падеж какой-либо скотины в большинстве относился на счет тех, кто ухаживал за ней. Люди между собой враждовали из-за того, что одному дали лошадь, другому нет, с одного взыскали за падеж скота, с другого нет. На трудодни получали копейки, но и ими дорожили, эти копейки крайне были нужны и доставались большим трудом. Была чертова уйма госплатежей и разных пожертвований. Последние, хотя и считались добровольными, производились с наглым принуждением. Иногда подписка происходила в комендатуре при виде нагана, лежащего на столе. Обязательные платежи взимались за постройки, скот, птицу, заготовленное сено и т.д. Добровольные займы шли на ОСОАВИАХИМ, поддержание революции за границей, постройку самолета «М. Горький» и пр. От заработка в колхозе ничего не оставалось, все уходило на государственные платежи и пожертвования. Приходилось жить за счет своего подсобного хозяйства, а если кто плохо развивал его, то влачил полуголодное существование.
Война
Как всегда, весной 1941 года приступили к посевной кампании, но во время разгара сева вода стала затоплять поля. Тогда все были мобилизованы на обвалование низких мест, но это не спасло. Вода затопляла даже высокие места, затопило и наш поселок. На суше осталось только около десяти домов, в том числе и наш. В контору Гоша с Ваней меня возили на лодке, в неё я садился с крыльца. Скот, как колхозный, так и единоличный, перевезли на более высокие места в боры. Много скота утонуло, в том числе и мы лишились коровы. Были случаи, что и люди тонули.
23 июня 1941 года в наш поселок прибыл уполномоченный НКВД из деревни Цингалы. Собрались люди, и он объявил, что немецкие войска внезапно напали на нашу территорию. Радио и телефона в поселке не было. Новости о военных действиях узнавали только из газет, которые доставляли в поселок один раз в 10 дней. На нас одновременно свалились два бедствия — вода и война. В 1941 году на фронт наших не брали — считали «неблагонадежными», учитывая то, что советской властью мы были поставлены в бесправное унизительное положение. Но наша военная сила, которой так сильно хвастались, коммунисты и комсомольцы, на которых так надеялись, оказались бессильны против немецкой армии. Враг продолжал углубляться в нашу территорию. Тогда было объявлено: войну считать всенародной, отечественной, и пошли на фронт наши «неблагонадежные».
Вода простояла до середины августа, сено косить было негде. Для корма скоту заготовляли древесные ветки, которые сушили и закладывали в ямы на силос. Человек тридцать отправили для заготовки сена в верховья Конды за 300 километров от поселка. Но все предпринятое далеко не обеспечивало колхозное стадо кормами, скот колхозников совсем оказался без корма, а сами жители — без картошки. Осенью 1941 года было принято решение райисполкома и правления колхоза: в Конду на прокорм отправить 60 коров и 20 лошадей, в поселке оставить несколько лошадей, 20 коров и 30 овец. Остальной скот предстояло забить на мясо.
Был ликвидирован весь скот, находившийся в частном пользовании, проведена мобилизация лошадей для фронта. Из нашего колхоза взяли около 30 голов, которых во второй половине ноября наш отец и еще два человека сопровождали по Конде до Тобольска, так как по Иртышу перегонять было нельзя из-за отсутствия сена, а на Конде наводнения не было и корма были заготовлены. В этой поездке отец простыл, так как морозы доходили до минус 45 и больше. После этого он стал часто болеть.
На хлеб и продукты была установлена карточная система. Мяса от забоя скота, как своего, так и колхозного, было много, но оно было низкого сорта, потому что скот осенью оказался истощенным. Зимой 1941—1942 годов люди особого голода не испытывали. Мы своей семьей и некоторые другие в бору на высоком месте раскорчевали одну сотку земли и посадили три ведра картошки. Урожай берегли на семена до следующего года. Весной 1942 года у продавца магазина, который сохранил корову, мы купили теленка, и впоследствии у нас выросла своя корова.
Война налагала свой отпечаток. Пошли военные налоги и «добровольные» пожертвования на войну. Деньги с пониженным курсом стали поступать только с открытием водной навигации, поэтому первое время для уплаты налогов некоторым пришлось распродавать крайне нужную им одежду. Но эти бедствия — как война, так и наводнение — были всенародными, поэтому жители поселка проживали их как общую трагедию, хотя были поставлены в особые условия: план для нас доводился в два раза больше, чем для местного населения. Из поселка все трудоспособные мужчины, начиная с 16 и до 52 лет, были мобилизованы в армию. НКВД продолжал свирепствовать. В свою паутину забирал ни в чем не повинных людей. Наших поселковых, работавших по договорам в леспромхозе над выполнением специальных заказов для военных нужд, на фронт не брали. На лесоучастках по линии НКВД также брали меньше народа. У людей было желание пойти на фронт и, если придется, погибнуть там, но не оказаться в лапах НКВД.
Не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь, ушедший на фронт из нашего поселка, перебежал на сторону неприятеля, даже не был никто в плену. Зато многие награждены орденами и медалями, произведены в офицерские чины. Из поселка на фронт ушли 97 человек, из них погибли 56, вернулись по ранению и инвалидами около 20, остальные вернулись в добром здоровье. Было пережито много горя, пролито много слез. У многих семей погибли по два человека.
Вода тоже сделала свое дело. Весь скот, находившийся в личном пользовании, был забит, а от колхозного стада, которое угоняли в Конду, осталось 13 коров и половина лошадей, остальные пали. В поселке ввиду недостатка и плохого качества кормов также пала большая часть скота. Животноводство пришлось начинать заново, и на это потребовалось несколько лет.
Из нашего семейства в армии никто не был, потому что не попадал в призывной возраст. Счетовод Мужев ушел на фронт в 1942 году и вскоре погиб. Дедушку Федотова, что работал в конторе, взяли по линии НКВД. Работать в конторе остался я один. Работы было много, иногда задерживался до 12 часов ночи. Кроме того, я вел большую переписку с фронтовиками, моими товарищами, ушедшими на фронт.
Мы своей семьей жили дружно. Отец находился в Самарово, продавал колхозные продукты. Лина жила в Челябинске. Гоша в школе учился плохо, так как мешала глухота. Весной 1942 года он начал пушнячить, ловить кротов, горностаев, колонков и лисиц. Он пушнячил удачно и завсегда был примером среди других. За добычу пушнины и рыбы отоваривали продуктами, и мы были обеспечены. Люди, работавшие в колхозе на земле и в животноводстве, переживали больший голод, многие даже ели мясо кротов.
Наводнение повторялось еще несколько лет. Пашни на низких местах продолжало затоплять, и они заросли. Посевная площадь сократилась до 100 с небольшим гектаров, да и ту обрабатывать было нечем и некому, так как часть лошадей зимой 1941-1942 годов была отправлена на фронт, другая пала от бескормицы. Часть людей также ушла на фронт, а часть взяли по линии НКВД. Комендатура стала освобождать от трудовой ссылки те семейства, у которых кто-то ушел на фронт. Они получали соответствующие документы и уезжали из поселка, в основном в родные края.
Отец наш продолжал болеть все сильнее. У него появилась постоянная жажда — никак не мог напиться воды. Сильно стали отекать ноги. Фельдшер, который находился за 10 километров в деревне Цингалы, говорил, что у него диабет. В конце 1944 года он ездил в Ханты-Мансийск и был на приеме у врачей. Ему предложили ложиться в больницу, но он отказался, сказав, что помирать будет дома. Приехал домой и больше почти не выходил из избы. Болезнь прогрессировала, и в присутствии нас, за исключением Лины, в возрасте 52 лет в 6 часов утра 6 февраля 1945 года он умер. Хоронили его почти всем поселком на кладбище около летнего сора. Жизнь его прошла в большом труде и заботах о семействе. Он все мечтал побывать в родных краях, но этому не суждено было сбыться. После его смерти мы ощутили большую пустоту в своем семействе.
Теперь все заботы о семье и хозяйстве пришлось мне брать на себя, а домашние работы легли на плечи матери. Стали помогать и ребята — Гоша с Ваней. Учебу они бросили, она им давалась плохо: Гоше из-за плохого слуха, а Ване — из-за недостаточно чистой речи. Гоша пушнячил, а Ваню устроили учеником сапожника. В это время каждый, особенно из молодежи, старался уехать из поселка, потому что за работу в колхозе почти ничего не получали, не было никакой одежды и обуви.
К этому времени я уже хорошо изучил бухгалтерский учет коллективных хозяйств. Счетоводы из соседних колхозов приезжали ко мне для проверки своих годовых отчетов и только после этого везли сдавать их в райсельхозотдел. Приезжали и на консультации по разным вопросам. Самаровским райсельхозотделом мне было выдано удостоверение «бухгалтера колхозного учета». Правление цингалинского колхоза не решало без меня никаких хозяйственно-экономических вопросов. Колхоз стал крепнуть. Колхозники больше всех по району стали получать на трудодень. К концу первого года моей работы в колхозе «Цингалинский» он за развитие животноводства получил районное переходящее красное знамя и удерживал его до конца моей работы в колхозе и далее.
Свободны!
После двух лет работы я продлил договор на третий год. Егор продолжал пушнячить и ловить рыбу для себя. Ивана устроили в промкомбинат учеником пимоката, но он был характера неспокойного, пожелал пойти на лесозаготовки. Там проработал одну зиму и сказал: «Пропади пропадом, чтобы я еще поехал туда». Он изъявил желание ехать на юг и в 1950 году расстался с Крайним Севером, своей родиной. Мама все время жила мечтой, как бы уехать в родные места, повидаться с родственниками. В конце концов на семейном совете этот вопрос был решен. К этому времени с нас сняли клеймо «трудоссылки», и весной 1951 года мы получили паспорта и вздохнули в полную грудь, так как стали свободными гражданами.
Я передал бухгалтерские дела своему ученику. Мама наготовила пампушек, взяли вина и всей своей оставшейся семьей поехали в поселок Черемуховск. Здесь собрали старух, ребятишек и поехали на кладбище, чтобы проститься с могилой отца. До этого я договорился с нашим земляком Алябьевым, чтобы он сделал оградку и поставил новый крест. За это ему наш поклон, так как он сделал все добросовестно. Затем приезжал Егор и все выкрасил красной краской. Это была первая оградка на черемуховском кладбище. По русскому старинному обычаю на могиле отца старушки спели несколько молитв, помянули хлебом, солью, немного водкой и попрощались навсегда с могилой нашего отца. При этом взгрустнули и поплакали. Но что поделаешь, если так устроена наша человеческая жизнь. Мы хотим возвратиться в родные края, а он остался здесь, в ссылке, навсегда, и его желания не сбылись…
10 июня, попрощавшись со всеми, мы переехали на пристань. С нами собралась ехать в родные края и тетка Акулина Павловна. Но председатель сельсовета Никуров Г.К., который за все время нашей ссылки старался оскорбить и унизить нас, попросил документы у тетки Акулины, которой в то время было 63 года, и забрал их, заявив, что они у нее незаконные. Когда пришел пароход, тетка осталась на берегу со слезами. После этого она в поселок не вернулась, а поехала в Самарово и там в комендатуре рассказала, как у нее отобрали документы. Никурову дали телеграмму, он срочно привез документы в Самарово, где их и возвратили тетке.
15 июня 1951 года на пароходе «С. Орджоникидзе», переименованном из «Воткинского завода», что вез нас на Север, мы отчалили от пристани Цингалы после 21 года нашей ссылки…
1965-1966 г.