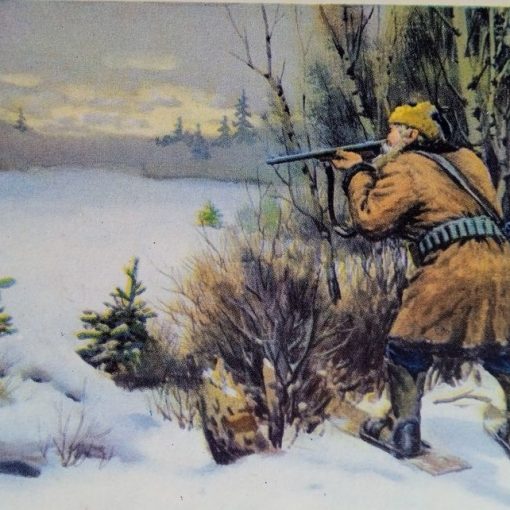Николай Коняев
Легли уже за полночь. С мыслями о внуке вздыхала на кровати Агриппина, на диване тяжело ворочался старик…
Трехлетним мальцом Кольку привезли в Осихино родители. Тогда, в семидесятом, Леонид — приемный сын — работал в какой-то мудреной сургутской конторе. Жили они с Глашей в семейном общежитии, по первости частенько наезжали в гости. Одаривали рыбкой, кедровыми орехами, ондатровую шапку сшили старику, а матери — кисы. Агриппина расцветала. Не от подарков — от сыновнего внимания: «Ленька у меня! Не дочь. Та, как замуж вышла, завихрилась!»
В том году малыш серьезно застудился. Был он бледным, квелым, беспрестанно куксился, мочился, и Агриппина, насмотревшись на страдания ребенка, однажды вдруг восстала.
«Все, родные мои детки, — сказала сыну и невестке, — сами поезжайте хоть на край земли, а мальчонку с вами не пущу. Угробите на Севере парнишку. Глядеть на него, горемычного, больно».
«Верно бабка говорит, — поддержал Шамарин. — Довели ребенка! Тонкий, звонкий и прозрачный. Пусть с нами малость поживет, на свежем молоке скорее оклемается». — Но втайне, где-то в глубине души, немало возмутился, когда сноха и сын не возразили. Они, похоже было, с тем и приехали в Осихино.
Остался внук у стариков. Выходили, вынянчили. На молоке, на вольном воздухе повеселел малыш, щечки разрумянились. Через год отец пожаловал, а чадо под кровать: не хочу от бабушки от дедушки. Стали думать, как с ним быть. «Нечего раздумывать, — заявил Шамарин, — пусть до школы остается, хуже, чем на Севере, не будет!»
Отстояли внука. Раз в год на летние каникулы уезжал в Сургут, гостил у матери с отцом неделю-полторы и возвращался к старикам.
Звезд с неба Колька не хватал, учился ровно и легко, баловством не выделялся, на родительских собраниях краснеть из-за него не приходилось. Рос как в сказке — не по дням, а по часам, за полгода из одежды вырастал, и та сотня-полторы, что присылали ежегодно из Сургута, были не ахти какой, но все ж таки поддержкой. Да и внук с седьмого класса начал зарабатывать: ездил на покосы, работал на косилках и на конных граблях, а в нынешний сезон сел на стогомет. Сена на зиму скотине и себе на джинсы заработал. Поехал поступать, да осечка вышла — баллов недобрал. В совхозе поработал год на тракторе и — вот тебе повестка. Ждали этого денечка, но застал он, как всегда случается, врасплох, и на душе у старика чуточку щемило…
«Вот и сын приемный, не родная кровь, — размышлял Шамарин, — а внука отрываешь как от сердца… Оценят ли вот только? Дано ли им понять?»
Ночью он проснулся от хлопка двери. Минуту полежал недвижно, вслушиваясь в шорохи за стеной. Мягкие шаги в комнатушке внука.
Старик буркнул по привычке:
— Ни днем, ни ночью нет покоя!.. И тут он явственно услышал голоса…
— Бу-бу-бу-бу…бу-бу-бу-бу…
Шамарину почудилось, что с внуком разговаривал… покойный дед Калижников, школьный учитель и сельский летописец.
Мороз по коже пробежал у старика. Он осенил себя крестным знамением, боком сполз с постели…
Внук за столом перебирал магнитофонные кассеты.
— Ты почему не спишь, дедуль?
Старик недоуменно огляделся.
— Я-то потому! А ты вот почему? До полуночи прошастал, а теперь тут с музыкой… С кем ты разговаривал?
— Тебе, дедуль, почудилось спросонок, — усмехнулся внук.
Старик поморгал озадаченно.
— Долго не сиди, завтра спать не дам — боровка заколем. — Присел на табуретку, тронул внука за рукав. — Ты, Колька, отслужи как полагается, чтоб перед людьми не стыдно было. У нас в роду служили все. Служили — не хитрили. — Шамарин помолчал, пытливо поглядел на внука. — И дедка твой не прятался за чужие спины. Не ждал, когда повестку принесут, а сам на фронт отправки добивался. С Семочкиным-дедом вместе добивались… Сейчас, — прервался неожиданно, — минутку. — Прошел, не зажигая света, мимо спящей Агриппины, принес из горницы шкатулку, в которой с давних пор хранились документы. Достал железный крест, за ним — другой. — Георгии! Мой дед Евтихий Каллистратыч когда-то заслужил, — старик придвинулся к столу. — Отчаю-юга дед мой был! Заселяли-то Осихино сплошь переселенцы. Курские да вятские, смоляки да витебцы. А землю разделить — не поллитру раздавить, скромно выражаясь. Не обходилось и без стычек. Как-то раз купчишки стали гнать переселенцев, те, понятно, воспротивились. Приехал волостной. Судил-рядил и приказал приезжим убираться. На другие земли. Тут и восстал мой дед. За правду постоял. Грудью колесом на старшину. Переселенцы тоже ощетинились. Словно пошумаркали! Наутро старшина арестовал зачинщика, доставил деда в волость. Тот зипун с себя долой, а на груди — Георгии, медали за турецкую войну. Куда деваться? Отпустили. Был такой закон: героев — уважать. Так что, внук, держи Георгия, пусть он будет при тебе, как этот… подскажи!
— Талисман?
— Во-во! Не потеряй. Он и со мной повоевал…
— Лады. — Внук встал из-за стола, прошелся взад-вперед, остановился за спиной Шамарина. — Дедуль! Давно хочу спросить… Если не секрет, из-за чего у вас раздор с Семочкиным-дедом? Воевали вместе, он из-под обстрела вытащил тебя. Жизнью ты ему обязан, а теперь, когда он приезжает, вы за версту обходите друг друга.
— Жизнью я ему обязан! Ну и что? Что из того? — Шамарин распалился неожиданно. — Допрос мне учинил! Семочкин Антон, если хочешь знать, в лагерях семь лет мотал!
Внук раздумчиво повел плечами.
— Это ни о чем не говорит. В те времена сидели многие… И многие сидели ни за что.
— Ни за что-о-о? Сопляк ты, а туда же! Просто так и прыщик не садится. И про Антона больше не пытай. Забудь о нем. Так лучше будет!
— Кому, дедуль?
— Тебе. И мне. И — всем… Вот так-то.
3
Легко сказать — забудь. Война не забывалась. Старик лежал, вздыхая, на диване, а думы были далеко, в августе сорок второго…
Шли повзводно кромкой поля, а в обратном направлении, подминая грязными колесами ковер из подорожников, двигались грузовики. В раскаленном воздухе, совсем как в мирный сенокосный день, витали серые кувшинки одуванчиков, кружили желтые и синие стрекозы. Внезапно выскочил из норки суслик, подбежал к обучине, встал столбиком, провожая юркими глазенками железную армаду…
— Антоха, глянь-ко, — суслик! — Шамарин взял комок дорожной грязи, бросил в сторону зверька. Тот стремглав исчез во ржи.
Семочкин Антон поправил на плече ремень от автомата, мрачно сплюнул в ноги…
Разведка утром донесла: в деревеньке Плаксино обнаружен немец. Рота или две. Прячутся по избам. Танков не видать. По всему — вперед прорвавшийся отряд, ждущий подкрепления…
К вечеру строй из двух взводов достиг населенного пункта. Взводу, где служил Шамарин, надлежало ударить в лоб, а другому — с флангов.
Приблизились вплотную к огородам и в ожидании сигнала «красная ракета» залегли в подлеске. Тихо было в Плаксине. Ни звука…
— Слышь, Антон? Может, нет там фрицев? Может, привиделось нашей разведке? — шепнул с затаенной надеждой Шамарин.
— Не скули, Василий! — отозвался Семочкин.
И тут ударил миномет…
— С музыкой встречают! — прохрипел Антон.
Первые разрывы послышались за лесом. Затем все ближе, ближе!
«Только бы не в голову! — просверлила мысль. Шамарин вдруг подумал, что смерть — когда вот так, шальным осколком в голову. Он грудью вжался в землю, обхватив затылок. — Только бы не в голову!»
Обстрел внезапно прекратился. На несколько секунд повисла тишина. Затем донесся гул…
Шамарин встал на корточки.
— Что это?
— Похоже, танки, Вася…
— Какие, к черту, танки! Разведка ж доложила!
И — зашелестело по цепи:
— Танки…
— Та-анки!
— Та-а-анки-и!!!
— Три…
— Четыре…
— Пя-ять!
Из-за бревенчатого сруба, сараев и плетней с ревом выползали черные машины. Дерзко, в полный рост, пошли за ними автоматчики…
— Наза-а-ад! — вскричал комвзвода, вставая на колени.
— Всем к лесу! Отходить!
Шамарин, повинуясь приказу командира, сперва на четвереньках, затем короткими прыжками, путаясь в траве, бежал к темнеющему лесу. Он понимал — спасение в лесу. Успеть бы, скрыться в буреломе, прийти в себя и отдышаться… Бежали через поле, путаясь во ржи. Падали. Вставали. Но уже не все… В груди свистело и хрипело. Он слышал за спиной горячее дыхание. А впереди стеной маячил лес. Надежда на спасение!
«Только бы не в голову! Только бы не в го…»
Качнулась земля под ногами, ослепило вспышкой, тугой волной отбросило назад. Пронзило острой болью, и свет в глазах померк…
* * *
Проводили внука. Пусто стало в доме, неуютно. С мокрыми глазами ходила Агриппина, суровее обычного выглядел Шамарин. Он теперь подолгу оставался в одиночестве. Курил и размышлял. Однажды бухнул Агриппине:
— Вот что, мать, надумал: буду ставить дом весной!
Агриппина обомлела.
— Для кого?
— Для Кольки. Вернется с армии в свой дом. А свой, он крепко держит.
Агриппина посмотрела, будто на больного, но возражать не стала.
4
После 7 ноября Агриппина собралась в Каменку к сестре. Вековуху Пелагею старик жалел за одинокость и недолюбливал за сирость. Она плакалась на всяческие хвори, звала обоих свидеться («быть может, больше не придется!»). Агриппина, читая пространные письма, пускала слезу. Шамарин позапрошлым летом дважды съездил в Каменку и, застав своячницу в бодром настроении, здоровой-невредимой — с флягой у колодца и с тяпкой в огороде, — разуверился в болезнях и зарекся ездить.
Поэтому воскресным ясным утром, проснувшись спозаранок, старик лежал бревном, не разлепляя вздрагивавших век. Агриппина встала непривычно поздно. Долго бренчала соском умывальника, расчесывала волосы, гремела чугунками и кастрюлями. С подойником в руке подошла к дивану.
— Вставай, отец. Пора.
Изображая пробуждение, старик недоуменно выгнул брови.
— Вставай, — поторопила Агриппина. — Покамись Жданку подою, умойся и побрейся, приведи себя в божеский вид — срамно такому выйти на люди. Да не шаперься — опоздаем на автобус.
Старик присел на краешек дивана, сунул кисти рук под мышки, зевнул, уставился на пол.
— Да он еще и не вставал! — возмутилась Агриппина, воротясь. — Сидит как истукан. Что с тобой сегодня?
— Не можется мне, Гриппк. В нутре сдавило — спасу нет. Вот тута, посередке, — прижал к груди ладонь. — Болит, не продохнуть.
Агриппина растерялась.
— Я предупреждала. Допахался до работы, как иной раз до гульбы. Настырность боком вышла!
— Порода наша до работы жадная…
— Вредная порода! Ляг, полежи, может, отпустит.
Старик послушно завалился на спину, сложил руки на груди. Агриппина процедила молоко, крикнула из кухни:
— Давай медичку позову?
Шамарин беспокойно ворохнулся, тихонько кашлянул. — Да не, зачем ее тревожить. Вроде отпускает… Ты это, мать, езжай одна, а я тут откатаюсь.
— Хуже бы не стало!
— Отлежусь, не сомневайся. Привет там Пелагее…
Агриппина нерешительно кивнула, переоделась в чистое, пошла на остановку. Старик дождался с улицы звяканья щеколды, выждал для надежности несколько минут, махом соскочил с дивана.
Умывался долго, с мылом. Кряхтел, стонал от удовольствия. Достал из шифоньера серую рубаху, давнишний, в мелкую полоску, выходной костюм, на расстоянии руки оглядел его придирчиво. Костюм, несомненно, нуждался в утюжке, но предвкушение праздника не позволяло медлить.
Пиджак, казалось, с каждым годом становился все просторней. Старик пальцами провел по подбородку, но от мысли о бритье тут же отмахнулся. На глаза попали Агриппинины духи. Ей каждый год дарили их ко Дню работников сельского хозяйства. Разновеликие флаконы, пузырьки теснились на комоде. Шамарин вытряс на ладонь несколько зеленых капель, втер их в шею, подбородок, размазал по лицу. Из-под прилипшей к столешнице клеенки выдернул тонкую тетрадь, испещренную карандашными каракулями. В ней он с самого начала своего пастушества вел поголовный учет стада. Старик не нуждался в этих записях, ибо каждую телушку и бычка знал по кличкам и повадкам не хуже, чем привычки и натуры всех своих сельчан. Тетрадь служила документом, необходимым для него свидетельством порядка. А порядок уважался стариком в любом серьезном деле…
На блескучую макушку нахлобучил шапку; выйдя на крыльцо, подпер березовым поленом сеничную дверь.
«Сборщик дани подался в обход!» — острил в таких случаях Колька.
Старику же было все едино: в обход, так в обход.
Продолжение следует…