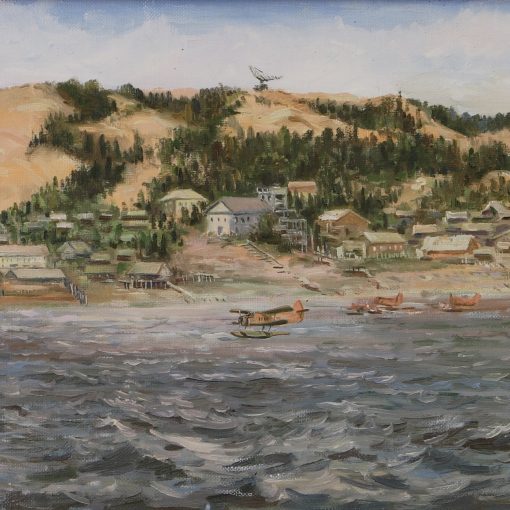Николай Коняев
Сбор дани начинался с Семочкиной Дарьи. Плату за пастьбу старик не пересчитывал. Знал по опыту, что меньше не дадут, а если передали — сдачу не отсчитывать. Маленькая хитрость — невелик грешок…
Семочкин Иван — полный, круглолицый, с белой шапкой вьющихся волос, в черном тренировочном костюме сидел на кресле перед телевизором и в ожидании позднего завтрака жевал кусок холодного мяса. Дарья — тоже круглолицая, но в отличие от мужа-альбиносика чернявая — хлопотала у плиты. Пользуясь расположенностью раннего гостя к неторопливой беседе, жаловалась на мужа. Иван то и дело одаривал жену уничижительным взглядом, но в разговор не вступал, лишь время от времени морщился, всфыркивал, крутил головой от досады.
Шамарин сидел у окна полубоком к хозяевам, в знак сочувствия к Дарьиным бедам вздыхал и поддакивал, блескучие глаза излучали гнев и немилость к поедавшему мясо Ивану. Но стоило Дарье отвлечься, выскочить в сенцы — вмиг преображался. Лохматые куцые брови ползли к переносице, низкий лоб багровел от прилива беззвучного смеха.
— Терпи, Ванька, не перечь, дозволь бабенке злобу выплеснуть!
… Война между супругами длилась третий месяц, конца покуда не предвиделось. Иван по пустячному, в общем-то, поводу схватился в споре с Казыдаем, сродным Дарьиным брательником. Но сгоряча переборщил — бросил на стол заявление об уходе. Казыдай, не долго думая, бумажку подмахнул. Нашла коса на камень. Управляющий надеялся, что Иван наутро на работу явится. Ну, повздорили, с кем не случается! Сколько было брошено в корзину таких вот заявлений на Казыдаевом веку. Иван же втайне полагал, что управляющий заглянет утром по дороге на работу, в шутку ссору обратит — хоть и вредный, но ведь шурин. Иванов трактор между тем простаивал, бригадир в глаза и за глаза костерил обоих. Дарья бунтовала, из дому стала гнать Ивана. Он пошел дизелистом. На маслозавод. Казыдай спохватился, не ожидал такого поворота. Кто умным назовет, отпусти он работягу? И ударил козырем: отказал Ивану в сене, на покосную копейку заработанном. Знал, деспот, чем пронять: трое парнишек-погодков у Семочкиных, старшему — седьмой годок. Иван было на дыбки — до прокурора, мол, дойду. Но поостыл и понял: до прокурора далеко, а зима не за горами. С литовкой по задворкам покрутился — чушкам на подстилку взял. Но уперся на своем — корову, дескать, сдам, молоко детишкам стану покупать, а к родичу с поклоном не пойду.
Корову Семочкин не сдал и знал уже — не сдаст, молока-то ребятишки просят каждый день, на молоканку не находишься. Хоть езжай воруй свое. Дарья обратно на трактор гнала, Иван бы и рад воротиться — гордыня не позволяла…
С многозначащим прищуром Шамарин глянул на хозяина.
— Хошь, Ванька, сказку расскажу?
— Тоже мне, Андерсен выискался!
— Вот тебе и Андарсан! Слушай. Про тебя… В одной деревне дело было. В старину. Сидит бабка на печи. Сидит себе, сидит. Вот стучат в окошко. «Кто?» — «За тобой, старуха. Жать идти пора!» — «Не, отвечает, не пойду.» — «Пошто так?» — «А пото. Я к зиме помру, внучка замуж выйдет, Жучка околеет. На кого мне жать?» Ладно. Не пойду, так не пойду. Вот тебе зима. Бабка не померла, внучку не просватали, Жучка не подохла. Сидят себе. Голодные. Хлебушка нема… Вот тебе стучат в окошко. Бабка с печки — скок! «Собирайся, внучка, жать зовут!» Вот тебе и сказ!.. —
Старик зашелся в хриплом кашле.
— Подь ты в баню, старый шут! — сорвалось у Ивана. — Без твоих побасеночек тошно!
Шамарин не обиделся. Скомканным платочком промакнул макушку.
— Не серчай, Иван. Помочь тебе желаю.
— Чем же, любопытно?
— Сеном, например. Много не сулю, а чуточек дам. Опять же у свояченицы в Каменке под бруцеллез корову браканули, а у ней, у скупердяйки, третьегодично цело. Перекажу, чтоб никому не продавала. Не горюй, сосед, — прорвемся!
Иван в наклоне подался к телевизору, убавил звук. Огорошенная Дарья застыла у печи.
— Умоем Казыдая! — заключил старик.
До хозяйки наконец дошло. Пальцами столкнув на краешек плиты сковороду с кипящим жиром, на цыпочках прошла к столу.
— Серьезно, Василий Егорыч?
— Неужто зря ботолить стану!
От неожиданной удачи Дарья взволновалась.
— Если можешь, выручи. А мы ведь завсегда… В долгу мы не останемся!
— Чего там, соседское дело! Ты меня за язык не тянула. Я своим словам покудова хозяин.
Дарья даже прослезилась.
— Вот ведь есть же люди добрые! Не то что братушка-вражина. Чужие во сто крат родных душевней! — Все еще не уверяясь, глянула на мужа. Тот кашлянул на подпол…
Дарья выставила водку и закуску.
— Кабы не детишки, Бог с ней, коровой, — объясняла на ходу. — А с детворой без коровенки чистая погибель.
— Так оно, соседка, не житье. — Шамарин закурил.
— Достае-ется нам сенцо, не приведи Господь!
— Что вы-ы, Василий Егорыч, — поддакнула Дарья. — Столько нервов с ним потратишь!
— Сперва накосить умудрись, потом еще вывезти вовремя!
— Ой, не говорите!
— Купить дешевле станет.
Хозяин недоверчиво глянул на Шамарина. Тот глубокомысленно вздохнул:
— Корову сдать? Не выход. Кто ты без скотины в сельской местности? Так себе, не человек.
Дарья вилкой сковырнула с горлышка бутылки белую жестянку, до краев наполнила стакан. Шамарин глянул на Ивана и — вопросительно — на Дарью.
— Моему ни грамма, — распорядилась та. — Он без водки куролесит хорошо.
Глаза у Ивана недобро сверкнули. Он невнятно что-то бормотнул, снова прибавил звук телевизора.
Старик беспомощно развел руками, поднес ко рту стакан.
— Ну, будем толстенькими, Ванька! — Выпил залпом, отдышался, занюхал хлебной коркой. — Иван! Спросить тебя желаю. Что, батька твой, Антон, сулит приехать или нет?
— Да кто его знает, сосед, — за мужа ответила Дарья. — Надумает — приедет… Странник Божий, да и только. Год у Толика в Омске прожил, а теперь у младшего, у Юрки. Восьмой десяток разменял, а дома не сидится. Сам, поди, не ведает, что на ум взбредет…
Шамарин придвинул бутылку, плеснул себе в стакан.
— Вольному воля, скромно выражаясь… У меня к тебе просьба, Иван. Дом надумал ставить Кольке. Отслужится, вернется, а там, глядишь, оженится — детвора пойдет. Тесно кучкой станет…
— С чего ты взял, что он вернется? У него родители в Сургуте.
— Колька? Прилетит! Дом у него в Осихине.
— Вернется, так совхоз квартирой обеспечит. Нужен ему дом! С больших, что ль, бабок дурью маешься?
— Хэх, какие вумники! — старик досадливо скривился. — Все б вы, молодняк, кивали на готовое! Все б вам кто-то что-то дал! Нет, Иван, свой дом, он держит, а не свой не жалко… Ставить буду — решено. Внук потом спасибо скажет.
— Тебе видней, хозяин-барин. Ко мне-то что за просьба?
— Помощи прошу. Пособи фундамент заложить весной. А там уж как-нибудь, с Боженькиной помощью… Что на это скажешь?
— А чего он скажет? — снова встряла Дарья. — Конечно, пособит… Вы бы закусили, а то ведь запьянеете.
Иван вдруг взвился с кресла, заходил кругами.
— Ты-то что встреваешь? Что ты всякий раз встреваешь? Сопи себе в две дырочки. Я за себя скажу!
— Человек с добром пришел! — заверещала Дарья. — С добром. А ты ломаешься. Свинья неблагодарная!
Шамарин усмехнулся понимающе, подцепил на вилку молодой груздок.
День только начинался.
5
Сельповскому сторожу Кузьке Шагову, за малый рост и вес прозванному Кроликом, Шамарин выражал недовольство Зевсом:
— Не бык, а нечистая сила. Все стадо, дьявол, баламутит. Намучился я с ним!
Глуховатый сторож напряженно вслушивался, сочувственно тряс бороденкой.
Постепенно пьянея, Шамарин склонялся к тяжелым раздумьям.
— Что такое жизнь пастушья, и чего я от пастушества имею? — Крючком поднес палец к виску, строго глянул на Кузьму, требуя внимания. Сложил ладошку в кулачок, плавно опустил его на стол. Сам на свой вопрос ответил: — Ни-че-го. Одно лишь угробление здоровья. Суди, Кузьма, коль не дурак. День-деньской на солнце, на ветру, под дождем, под молнией. А комар да овод? Чистая погибель. Словом не с кем перемолвиться, разве что с Серухой. А много ль пастуху почета? Колька сказывал, в Германии даже горлодрану-петуху памятник стоит. А пастуху пошто не доумились? Ну, памятник, согласен, жирно будет, но уважение ока-ажь! Дай внимание почувствовать! Выдели какую-нибудь льготу. Что же это происходит? Мы с тобой, Кузьма, живем на равных основаниях, а разве это справедливо? Не совсем. Твой труд сегодня невелик, тебе ведь одинаково, где спать — дома или на работе. А я со стихией борюся. Пастух, он, хочешь знать, третий на деревне человек. После продавца и тракториста. А мы с тобой — на равных основаниях! Вот бы кому это все обсказать. У тебя, Кузьма, вроде сын грамотей?
Кузьма кивнул, польщенный.
— В районной газете сидит. Про нашу жись статейки сочиняет.
— Раз сочиняет, значит, соображает. Тебя в газету не посодят. Ты бы ему подсказал. Так, мол, и так. Живет у нас в Осихине заслуженный пастух. Пенсионер и фронтовик. Израненный к тому же. Но пользу обществу приносит. Нельзя ли по части строительства скидку ему подыскать?
Кузьма пальцем помял кончик сизого носа, запустил пятерню в бороденку.
— Подсказать-то, парень, можно. Чего не подсказать.
— Вот и подскажи. Ведь я с твоим Зевском… здоровье подорвал!
— Можно подсказать!
Шамарин вскинул руку.
— Было позабыл! Ты как насчет печного дела? Мастерка из рук не выронишь? Такой мастак ты был по этой части!
— Было дело, да…
— Так как, не выронишь, Кузьма?
— А не должон.
— Знамо дело, не должон. Мастер ты или не мастер? Ты, Кузьма, имей в виду: печка в новом доме за тобой. Русскую мне сложишь. На печке народился — на печке отойду. Во мечта какая!
— Сурьезная мечта. — Кузьма почесал бороденку и хмыкнул: — Ох и шельма ты, Шамара!
— Это почему?
— Дорого мне Зевс-то обойдется!
— Ну, шельма так шельма, а печка за тобой.
* * *
Сбор дани продолжался.
Через полчаса старик топтался на дороге.
Я на Бурочки-и ката-алси,
Крутой делал разва-рот, —
Чир-рнобровая мата-аня
Да, стоя-яла у ва-рот!
Подмывало сплясать.
Как в весеннем у лесу-у
Саловал не знаю чью,
Думал, в кофте розова-ай,
А это пень березова-ай!
Как всегда в разгар веселья, перед ним предстала Агриппина.
— Нализался, хитрозадый! Опять обвел вкруг пальца. На полпути дошло — попуткой воротилась!
Старик остолбенел, выпучил глаза. Дернулся, но поздно. Отвесив тумака, Агриппина за рукав, как Мотря на веревке упирающегося Зевса, потянула мужа за собой.
— Гриппка, грызь зеленая, пусти! Ослобони, не то вожжами отхожу!
— Побазлай вот у меня. Я тебя скорее отхожу!
Старик обмяк и сдался. Дошло, что праздник кончился. Кончился бесславно, унизительно. И скоро до обидного.
Дома Агриппина вывернула мужнины карманы, на глазах у старика пересчитала деньги. Смятые пятерки, трешки и рублевки сунула под стопку чистого белья в комоде. Все. Это была ее территория, посягнуть на которую старик не смел подумать.
Он проплелся к своему дивану, сел на него, уронив между колен оплетенные синими венами руки, посидел, раскачиваясь корпусом. Завалился на спину. Всмотрелся в себя на портрете — молодого и уверенного. Затих. Ушел в воспоминания. Ворошил былое, как страницу за страницей старой книги, которую, будучи в глубоком убеждении, что ничего нового в ней не найти, давно никто не раскрывал. И заснул незаметно. Лежал, пахнущий куревом, водкой, духами…
Агриппина постояла в изголовье, тяжело вздохнула. Присела к столу, достала из кармана карты, поднесла к губам колоду.
— Тридцать шесть картей четырех мастей, лягте в круг, скажите вдруг, что короля ожидает…
Раскинула на внука, на сына Леонида. Выпало неплохо.
— Ну и дай-то Бог!
— Тпррру, Серуха! — выкрикнул во сне Шамарин.
* * *
Не глубок был сон, но и не краток. Шамарин пробудился поздно. Голову разламывало, будто распирало обручем. На табуретке у дивана стоял синий ковш с рассолом.
— Вот тебе и Гриппка! Вот и грызь зеленая! — благодарно простонал старик и, превозмогая боль в висках, оторвал по подушки тяжелую, как чан, голову. Перед глазами, отдаляясь и увеличиваясь, поплыли черные круги. Шамарин сел на краешек дивана. — Черт тебя, дурилу старого, дернул пуститься в обход! Давление вон как подпрыгнуло. Совсем, однако, захирел.
Крутой огуречный рассол пригасил похмельный жар.
— Наделал, старый хрыч, себе хворобушки! — Старик прошлепал к умывальнику, намочил полотенце, обвязал им голову. Боль в висках утихла. Медленно, избегая резких движений, переоделся в привычное серое, вышел на крыльцо. Теперь его мучил вопрос: не учудил ли чего-нибудь спьяну? Силился вспомнить подробности обхода, но память ему изменила…
— Ну и слава Богу, — подумал вслух старик. — Стало быть, не больно-то народ потешил, если Гриппка умелась молчком. Кабы чего отмочил, задала бы трепку. Тихо-мыхо, стало быть…
И оттого, что ничего постыдного для своих солидных лет как будто он не отчебучил, не ославился перед сельчанами, на душе просветлело, отлегло от сердца.
— А ведь сдал ты, Васька, — сукин кот! — подтрунил над собою старик. — Было времечко — улицу скрозь проходил, а вчера трех дворов не осилил. Сплохова-ал!
В ватной телогрейке, с полотенцем вокруг головы, скучающе поглядывал на улицу. Ничего интересного он там не находил. По голой, каменеющей земле катились усыхающие листья. Через дорогу, у сельпо, кружком стояли бабы, тарахтел совхозный «беларусик». На коляске с ручным приводом прокатился по своим делам безногий пимокат Митрофан Морозов. Шамарин проводил его печальным взглядом, горько усмехнулся.
«Живет ведь человек… Полтулова всего-то и осталось, а поди ж ты, катится. Будто так и надо. Еще и глянет, точно на букашку. Нашто вот живет человек?»
И совсем уже некстати пропел скрипучим басом:
Эх, мать-перематъ
Молодые годы!
Мне с матаней не гулять
Из-за плохой погоды!
Пропел и поглядел на небосвод.
— Скорей бы мороза. Пора б уже покруче завернуть!
Продолжение следует…